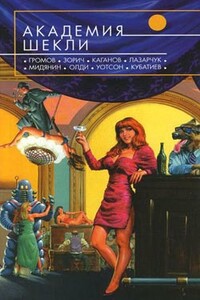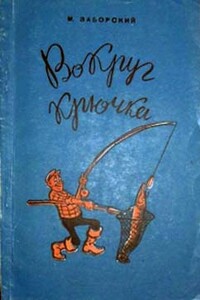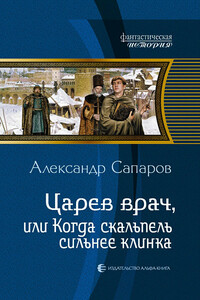Вот и настал день, когда впервые за без малого три тяжких года просияло светлое Ра-солнце. Дважды: посредь хмурного дня – на несколько сердечных туков глянуло в прогалину оболока, никто с перепугу ни «ура», ни «хай» крикнуть не успел, стояли, головы запрокинув, как мраморные грецкие бабы, – а много после – подлегло под край того оболока и в жёлто-алом сумраке опустилось-легло медленно-медленно за синие Окоёмные горы. Тут уж накричались вдосталь…
И радостно кричали, и горестно.
Всеблагое ты наше…
На кого ж нас покинуло…
Тем вот и хуже гельв нечистого, что нечистый месяц скрадёт, почухает-почухает, да и бросит, – а гельв подлый солнце-Ра унёс – и как бы не навсегда.
Для многих-то так и вышло – что навсегда. Сколько уж легло во глубокие рвы, не дождавшись возврата пресветлого, – и русов, и урусов, и многих тарских да востоцких племён людей-коневодов, что жили в кошмовых домах по ту сторону Ородной Руины, Общей Горы, где дарованы были в незапамятные тёмные годы тёмным же да розным племенам законы родства. И сказано: сколь будет стоять гора, столь пребудет и родство.
И вот нет вам ни Руины, ни законов…
Густится, клубится тьма. В душах людских тьма, не в небесах. В небесах днями висит мерзкая хмарь, бросает снежок, а когда скопляется ночь, то пускают гельвы огненных змей, и виднее всё округ становится, чем в хмарый полдень.
Десятский Мураш стоял второй за сегодня сурок в башенке над вратами – и пьян-счастлив был, что оба загляда пресветлого Ра на бдения пришлись его, а не на сон. Досадовал, ох и досадовал бы, обернись иначе. Ничего, что ветер поднялся, к ветру и спиной можно повернуться, бараний кожух проймёт не враз. Холодный ветер, льдистый. Позёмку несёт, чьи-то следы по лесам заметает… Лето началось, да. Но вот уж и темь наползла небесная, и змеи трёхглавые огненные, мертвенного блеска, под облаками полетели, и холод пробрал ноги и спину, заставив дрожать и зубами лязгать, а друг-заменщик не шёл и не шёл.
Уже пять десятков раз думкнула обтянутая кожей бочка в Царской башне. К шестому счёт шёл. Тогда только увидел Мураш, как слева, от Ясных врат, по скорбной тропе движутся кучкой несколько теней. Змеи мёртво-светные их высветили… Никого не несли на руках, а значит – или занемогли сыпью горячей, или – пришлые. Мураш вёл их взглядом. Скрылись за поречью…
Вот и шесть десятков минуло. Кто же там при бочке? Старый пешка Бобан-безгласый? Ленится Бобан, не ходит вкруг башни, а по-у бочки стоит да сердечные туки считает – благо, грамотный, умом умелый. Две сотни насчитал – думкнул по бочке. Ещё две сотни – снова думкнул.
Царь про то знает, но не сердится на Бобана. Дурная голова, мол, ногам покою не даёт, а умная, противу того, ногам помогает… Царь умных привечает-любит, на то и имя ему – Уман.
Пришёл наконец сотенник Рудак, сумрачный, как туча дневная. С ним пешка незнакомый. Сказал сотенник опасное слово, ответ услышал – кивнул.
– Пойдём, Мураш, – сказал.
– Чего так долго-то? – стараясь зубом не клацнуть, выдавил Мураш. Снял кожух, отдал пешке.
– Плохо всё, – голову в плечи втянул Рудак, будто это он лишних полсорокб на морозе отстоял. – Городец Брянь – слышал такой?
– Ну?
– Так нет того городца…
Мал был городец, да дорог: с полуденных перевалов тропы стерёг, прям под ним они сходились – три. Оттуда к Бархат-Туру дорога мостовая шла… Не беспокоили городец всё время долгой гельвьей зимы, так и казалось, что минует его казнь. Перевалы снегом забиты таким, что верхового с конём и апостолой[1] скроет. Но дождались вот налёта татского, воровского…
С сотню воинов там было всего, да баб три сотни, да детишек четыре.
Воины все легли – на стенах и после в поле, отбивая гельвов и закатных людей от обуза. Но не отбили, не смогли. До Бархат-Тура дошли шесть баб, две девки и два десятка ребятишек. Девок и здоровых ребятишек взяли за стены, а баб и трёх с ними помороженных да побитых недолеток послали в ров. Нет хлеба на всех, и на тех, что уже за стенами, нет хлеба…
Скорая смерть от железа чище, чем долгая от мук.
А городец спылал весь, то-то с Ясных врат и дым был виден довчера, и зарево в ночь.
Ждать теперь гельвов, да рохатых, да гонорных людей и к стенам Бархат-Тура. Набредали позорные наши на следы гельвские в лесах неподалёку. Кружат те и ждут, ждут и кружат, как тяжёлые от непомерной сытости волки. Поймут, что сголодались мы, сошли на кость – и кинутся. Вон, половина уж воинов ни меча, ни сеча не подымет… а уж лук натянуть…
Мураш кивал. Прав был Рудак, мрачен, но прав.
В караульной темнухе горел очак, и только. Седоусый Лядно, скача на деревянной ноге, поставил перед Мурашом глиняный кружак с хлебнёй и нежно, как детку, положил у кружака тонкую лепёху.
Без соли была хлебня… да и почти что без ничего, две блёстки с трудом рассмотрел Мураш да какие-то опилки на дне. А уж по каким углам мучку для лепёх подметал да на чём тесто замешивал Лядно, Мураш спросить побоялся: как-то не по-едоцки хрустело на зубах. Одно, что хоть горячее было всё, да и со спины тихо входило в нутро чистое тепло.
Доброе дело – очак. Добрым огненным оком глядит. Со времён древнего великого царя Урона на всех апостолах да знамёнах – очак и пламень.