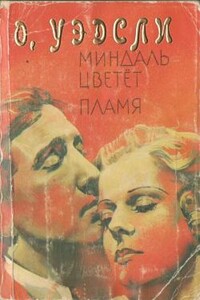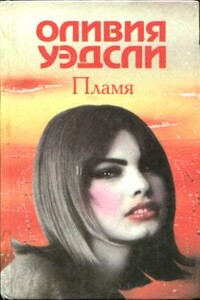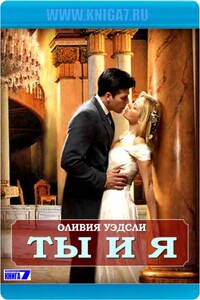Окончив завтрак, который он ел с большим удовольствием, выпив чашку чудного кофе и поглотив немало булочек с вареньем, Рексфорд вышел из-под украшенного белыми и розовыми кистями тента посмотреть, какова погода.
А день был прекрасный – солнце сияло, небо было синее, воздух кристаллически прозрачный, и тени на фоне ярко-белых мест, освещенных солнцем, казались точно выгравированными. В такой день, по мнению Рексфорда, нужно было что-нибудь предпринять. Он вообще считал, что каждый день нужно было что-нибудь делать, а в городе в особенности: но делать что-нибудь в городе означало просто уехать из него куда-нибудь на воздух. Правда, Паго нельзя было назвать настоящим городом, но все-таки это было место, в котором были улицы, а следовательно, самое лучшее было поскорее покинуть его пределы.
Рексфорд вынул маленькую зажигалку, закурил папиросу и по привычке стал глядеть по сторонам, не увидит ли он где-нибудь собаки, и тут в его воображении вырисовалась картина его собственного двора и фигура псаря с его любимым терьером Ником.
Не имея желания продолжать прогулку и все еще вспоминая Ника с его замечательными янтарными глазами и безукоризненным сложением, Рексфорд вернулся в отель и поднялся в комнату жены. Он шел, слегка покачивая плечами, той свободной походкой, которая всегда отличает атлета, и, когда, постучавшись, он остановился в ожидании, его фигура на фоне белой крашеной двери казалась очень большой и громоздкой.
Франческа пила шоколад в постели, читая полученные на имя Рексфорда письма и строя для него планы на предстоящий день.
Он поцеловал ее чудные волосы, перевязанные сзади широкой лентой с бантом, как у маленькой девочки, осторожно опустился на хрупкий плетеный стул, который заскрипел под его тяжестью, вытянулся, улыбнулся Франческе и сказал:
– Ну, хорошо, как же насчет этого?
Он задавал тот же вопрос каждое утро в течение всего путешествия, и Франческа, предупреждая его желания, всегда позволяла ему водить ее в такие места, которые, по ее мнению, больше всего ему нравились, где он мог бы плавать, ловить рыбу и стрелять или, по крайней мере, смотреть, как другие занимаются тем или иным спортом.
Друзья Франчески, претендовавшие на «полную откровенность» с нею, – которая, в сущности, является не чем иным, как самой докучливой назойливостью, – часто говорили ей, что Тони у нее под башмаком.
Слушая их, Франческа только улыбалась, а передавая их замечания Тони, смеялась громко.
На самом деле Франческа любила своего мужа. Она полюбила его сразу; вполне сознавая, что он был не слишком «боек» и скорее даже немного тяжеловесен, она тем не менее любила в нем эту тяжеловесность так же, как любила его золотистые волосы, хорошо приглаженные утром и перед обедом, но уже менее послушные к вечеру, так же, как любила его голубые глаза, упрямый мальчишеский рот и всю его громоздкую, сильную фигуру.
При слабом свете комнаты, в своем легком, белом костюме, он казался в это утро еще более громоздким, чем когда-либо.
Раздался стук в дверь, и, весь сияя от удовольствия, в комнату вошел слуга с большим букетом желтых роз. Он разразился целым потоком красноречия, описывал свои похождения в поисках за этими розами, их необыкновенную красоту, а также красоту благородной сеньоры и щедрость ее мужа.
Рексфорд приподнял одну бровь, дал слуге пять песет и поблагодарил его. Затем, взяв у него розы, он передал их Франческе.
– Я боялся, что мне не удастся достать именно таких… желтых; ведь другие… это совсем не то!
Он пересел на край кровати и обнял жену. Оба засмеялись.
– Какая была бы трагедия, если бы этот малый не сумел их достать, не правда ли, дорогая, в такой день, как сегодня?
Франческа притянула его к себе своей белой рукой и поцеловала.
– Тебе приходят в голову чудесные мысли, Тони, – нежно сказала она, прижимая его лицо к своему.
Рексфорд просиял.
– О нет, – счастливым голосом уверенного человека сказал он, – но когда имеешь счастье быть мужем такой прелести, как ты, моя дорогая, нельзя забывать. Я и посейчас помню, как я нервничал, ожидая тебя в храме. Мне показалось это вечностью, и когда ты, наконец, появилась, у тебя был вид такого младенчика, мне стало стыдно и даже как-то страшно, как будто я совсем не имел права на тебя.
Он выпрямился, закурил папиросу и передал ее Франческе, затем, закурив другую для себя, добавил:
– Ты знаешь, дорогая, я чувствую себя так хорошо, сидя с тобою, как десять лет назад. Но мне кажется, ты что-то молчалива, родная; случилось что-нибудь?
Франческа засмеялась отрывистым смешком: – Ничего, честное слово. Но ты понимаешь, что жена не может не быть тронута таким подношением в десятую годовщину свадьбы. Другие мужья, дорогой мой, после такого срока вместо того, чтобы подносить золотые розы, начинают подумывать о разводе.
Рексфорд засмеялся:
– Только плохие мужья, родная. Весь вопрос в том – способен человек или не способен оценить свою подругу жизни, и притом с самого начала.
Он встал и поправил перед зеркалом свой галстук.
– Ты знаешь, Фай, я не хвастаюсь блеском своего ума, но ты согласишься, что я сумел рассмотреть хорошую вещь, как только я ее увидел?