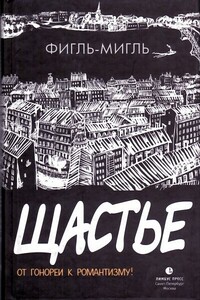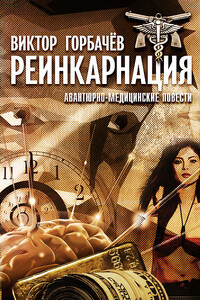Фигль-Мигль
История цензуры
Цензура. Полезна, что бы ни говорили.
Флобер. Лексикон прописных истин
Если верить Плутарху — а кому же верить, как не ему? — Марк Порций Катон Цензор (Катон Старший) был злой, синеглазый и рыжий; скряга без совести, зануда без сердца, ретивый вразумитель и каратель, сеятель подозрений и клеветы во имя базовых ценностей древнеримской жизни.
Он преследовал роскошь и занимался самым гнусным ростовщичеством, поносил греческую ученость, добился изгнания из Рима кое-каких слишком модных философов, Сократа называл пустомелей, презирал людей, которые не пеклись о личной выгоде, заглядывал в каждый обывательский горшок… При этом вряд ли сыщется человек, который бы чаще выхвалял и приводил в пример самого себя.
Чистые руки, известковая душа. Непристойная личность; что скажете? Впрочем, только такие и наблюдают за нашими нравами.
Э… ну и что? Это вы таким манером рассказываете о цензуре? Тогда бы начинали с допотопных времен, из-за чего-то ведь Господь рассердился, прежде чем карать. Из-за чего? Да все из-за того же: “велико развращение человеков на земле”. Однако непонятно, что именно там приключилось: запротоколировано только одно убийство, да еще дочери человеческие блудили с ангелами — жидковато для потопа, простите за странную шутку.
Шутите как хотите, а про Катона мы вам все равно изложим: это традиция. Все, кому приходила злополучная мысль писать историю цензуры, начинают с царя Гороха, потому что главные артефакты уже налицо, а обилие материала еще не сбивает с толку; излагаешь четко, связно, последовательно. Радищев, например, тоже начал свое “Краткое повествование о происхождении цензуры” с афинской демократии — Сократ, Протагор… Чего там с Протагором? Был такой мужик по прозвищу Мудрость, научивший народ складывать дрова в вязанку наилучшим геометрическим образом. Писал он о богах, государстве, добродетели, неправильных людских деяниях и прочей ерунде. Ему удалось бежать из Афин, но его книги сожгли на площади, “через глашатая отобрав их у всех, кто имел”. А Анаксагору, кажется, и сбежать не удалось.
Скучно нам, хоть это и предписано традицией, бранить благожелательную афинскую чернь, но посмотрите, как интересно были устроены афинские интеллектуалы: Платон одной рукой пишет “Апологию Сократа”, а другой — “Государство”, в котором детям разрешается петь только одобренные цензорами колыбельные. Потребуется год, два или целая жизнь, но рано или поздно питомец мудрости принимается сочинять утопию, в которой город солнца выходит такой казармой, таким концлагерем, что невозможно не увидеть: эти вещи делаются от презрения к людям, а не от большой любви.
Катон понятен, как пять копеек: безвестный и темный человек приехал из провинции, стал насаждать в столице деревенскую добропорядочность, этику снохачей, мораль выжиг. Его презирали и ненавидели лишь те, кто знал цену Сократу, изящным побрякушкам — эстеты, моты, знать, — а народ, сам только что из деревни, любил. Что же вы, пойдете против народа? Нет, никто из пишущих компатриотов открыто против народа не пойдет — иначе получится, что родная литература напрасно удобрила собой землю этих скудных селений. Сейчас мы хотим сказать одно: две мотивации, две системы ценностей, два человека, степень интеллектуального развития которых смешно сравнивать, а результат один: вонь! Потому что Платон и Катон — два конца одной палки, представления о том, что человек — животное общественное, частью зверь, частью жертва… гм, гм… живет стадом, нуждается в по мере сил добром пастыре.
Но человек не хочет быть общественным животным; эта роль навязана ему порядком вещей, как навязаны смерть и круговорот воды в природе. Вся социальная философия и практика — это множество ходов в один тупик: невозможность примирения личности и общества. (Куда ни пойдешь, всюду упрешься в Достоевского.) Интерес общества — прежде всего порядок, стабильность, а личность — Бог знает, что ей нужно, и нужно ли вообще. Мы только знаем, что частный человек бежит и от пастухов, и от стада — забивается в дыру privacy — в мелкую собственность, недостойные страсти, искусство — и его приходится из дыры выковыривать, как таракана из булочки (а он не желает, изюмом прикидывается!), иначе беда, анархия, конец света. История человечества — это история контроля над собственностью, страстью и искусством, искусством мысли в том числе, и цензура как таковая — всего лишь часть всеобщей системы подавления. Нельзя утверждать, что индивид не получает известного возмещения: без подавления личности не может существовать общество, а с гибелью общества некому будет вести разговоры о свободе личности. Это ничего не меняет, никого не оправдывает. Из этой местности нет дороги к жизни. (Хотя существуют предлагаемые частным человеком паллиативы. Доброта, как пишет тот же Плутарх, простирается шире, чем справедливость.)
Хорошо, очень интересно. Так что там с цензурой? Понятно; вам нужны факты, а теоретизировать вы предпочитаете самостоятельно. Мы не против; начнем еще раз. История цензуры.
Ее можно рассказать как собрание анекдотов (зри А. Скабичевского). А можно — как мартиролог (зри А. Блюма). В любой энциклопедии есть сведения об индексах запрещенных книг, папских эдиктах, королевских указах, английских “законах о пасквилях” и николаевском цензурном уставе. Еще в энциклопедиях есть разные акценты. Вот “Британника”, например, пишет, что “история цензуры, по счастью, есть также история свободы и терпимости”. Ах, какая серьезная, обстоятельная статья в “Британнике” — там даже порнография идет отдельной строкой. А БСЭ 1957 года признает, что цензура есть и в СССР. Но она “носит совершенно иной характер, чем в буржуазных государствах”, и ее деятельность направлена на “предотвращение публикаций материалов, которые могут нанести ущерб интересам трудящихся”. А что может нанести ущерб интересам трудящихся? Все что угодно — сколько трудящихся, столько и интересов, при отсутствии одного объединяющего. О главном, конечно, сказано еще в ленинском декрете 1918 года “О революционном трибунале печати”: “…к преступлениям и проступкам против народа путем использования печати относятся всякие сообщения ложных или извращенных сведений о явлениях общественной жизни”, — но разве это советская власть придумала, что наиболее велик и ужасен ущерб, наносимый свободной мыслью? Из века в век пастухам (а они и не пастухи, им просто достались разыгранные в орлянку шмотки, кнутики-ножики) мнится, что от “думай как хочешь” полшага до “живи как думаешь”. Но это не так. Свободная мысль не всегда влечет за собой свободное слово — слова нечасто впрягаются в повозку дела, — а даже если допустить, что слово порою и есть дело, самая мощная болтовня выветривается на сквозняках времени, счет которого идет на дни. Скажем, в масштабе патриархальности проще и выгоднее покарать, нежели предотвращать: снабдить Сократа не поначалу лицензией, а в итоге цикутой. Свободное слово очень легко привязать к тому, кто его произнес, и обоих приколотить к какому-нибудь кресту, всем на радость. Да, но последствия! Э, мало ли какие последствия явятся через тысячу лет. Патриархальность думает о прошлом, а не о грядущих тысячелетиях; на ее веку последствий определенно не будет, и ладно. Поэтому настоящая история цензуры начинается с возникновением книгопечатания, которое все осложнило, как менингит после свинки.