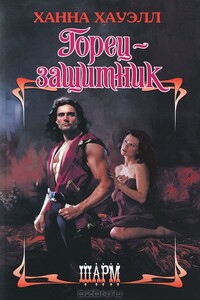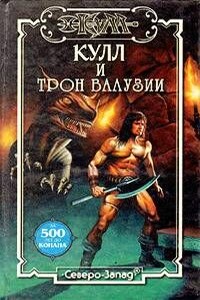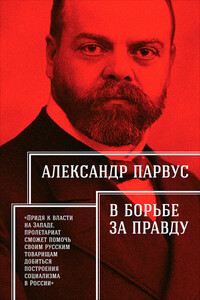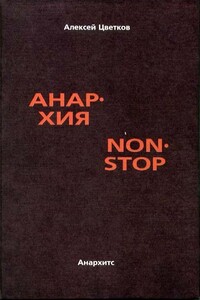Жанна Пучинина
DE PROFUNDIS {Из бездны (лат.)}
«…Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже свершившийся факт. Вы всегда были проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам о том, что ваша теория солидна и остроумна. Впрочем, ведь все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это. Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие!»
Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита».
«Кроха сын к отцу пришел и спросила кроха: «Что такое хорошо и что такое плохо?..» Будь отец подлинно мудр, он ответил бы на это, что хорошего или плохого, доброго и злого, светлого и темного в чистом виде не существует. Все происходящее с нами и окружающее нас — события, явления, предметы — по сути своей нейтральны. Как камень, который можно заложить в основание храма, а можно и размозжить им чем-то прогневившую тебя голову… Как нейтральны огонь и вода, могущие нести и жизнь, и смерть… Как нейтральны по природе своей расщепленный атом или телевизионный кадр, или ручка, которой я сейчас пишу… Все зависит от нашего отношения к ним, от содержания, транслируемого им нами, от состояния нашего сознания, мыслеформы которого они отражают. От того самого сознания, которое, по утверждению дедушки Геннадия Зюганова, определяет бытие.
По этой возведенной в постулат «солидной и остроумной», но удручающе бескрылой теории мы покорно и жили, вслед за ее автором как-то совершенно игнорируя тот факт, что, следуй ей человечество, оно и по сей день не выбралось бы из пещер. Ибо все великие открытия, двигавшие его вперед и вперед, совершались-то как раз всегда существующему бытию вопреки. Хотя Маркс был совершенно прав по-своему, то есть с точки зрения трущобного человека, если подразумевать под трущобностью не быт, а бытие как состояние духа. В зависимости от него и дворец может разить зловонием трущобы, еще более страшным, чем смрад собственно трущобы, поскольку у нас чтобы дотянуться, докарабкаться, дорваться до дворца, нужно начисто забыть, Чей ты образ и подобие. И в этом смысле все мы, за редким исключением, были трущобными людьми, над усовершенствованием породы которых, осмелюсь предположить, особенно потрудилось единобожие.
Земное сообщество эпохи язычества — этого детства человечества — было целиком обращено вовне. Вся ответственность за ту или иную сферу жизнедеятельности человека делегировалась какому-то четко определенному божеству. Собственно от человека ничего не зависело, разве что строгое следование регламенту жертвоприношений. Возникновение единобожия и особенно христианства с его нравственными императивами обратило человека лицом к самому себе, даровав ему неизмеримо большую свободу, но и обязав его в то же время к неизмеримо большей ответственности не просто за каждый миг своей жизни, за свои не только дела, но даже и прежде всего помыслы. И эта умопомрачительная ответственность, обрушившаяся на него вместе со свободой, стала для большинства непосильным, нестерпимым бременем.
Есть такой очень популярный на Западе автор, психолог Эрих Фромм, который все существование человека, все его жизненные конфликты рассматривает в том плане, что у человека имеется стремление к зависимости. Он боится свободы, свобода — это то, что отрывает перед ним возможность выбора. Фромм анализирует эти вещи в плане историческом. Когда история человечества от феодализма перешла к капитализму, человек почувствовал свою свободу. Свободу от ранее устоявшихся традиций, от веками сложившихся социально-производственных отношений. Перед человеком открылась свобода выбора. Он сам несет за свои поступки полную ответственность. Этот переход вызвал у человека страх перед миром. Человек бессознательно стремится к зависимости. Так, с точки зрения Эриха Фромма, формируется тоталитарное общество. Он анализирует это на примере становления фашизма в Германии, когда тоталитарное фашистское общество по сути дела представляло собой гигантский механизм подавления людей, подчинения их определенным стандартам, отклонение от которых серьезно каралось.
Прошли через это и мы. Стойкие, безропотные, неприхотливые, готовые стерпеть все и даже большее, «лишь бы не было войны». Но пройдя, все еще не вышли. Наглядное доказательство тому — головокружительная победоносность нашествия тоталитарных сект, куда, как совсем недавно в коммунизм, ринулись толпы «задавленного» свободой народа, едва успешного снять один рабский ошейник, но уже тянущегося за новым. В этом смысле мы по сути и не выходили из эпохи феодализма. Все то же стремление к подчинению, дающему человеку пресловутую уверенность в завтрашнем дне и избавляющему его от страха перед жизнью. Тем более перед нашей сегодняшней жизнью, когда заснув в одной стране, можно проснуться совсем в другой, этот страх особенно липок и силен. Получив возможность выбирать, мы выбирать еще не научились. Не потому ли мы и политизированы до такой степени, что все еще надеемся: вот изберем того, а не этого, и уже назавтра все возьмет и изменится? «Вот приедет барин, барин нас рассудит…» Да ничего не изменится, пока не изменимся мы сами! Пока мы полностью и окончательно не освободимся от страха перед свободой выбора — и в хижинах, и во дворцах, где выбора eye меньше, страха еще больше, — мы будем иметь то, что имеем.