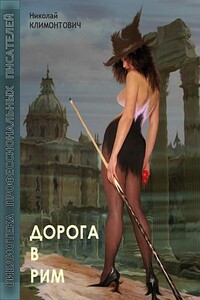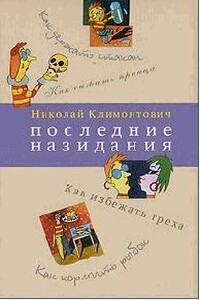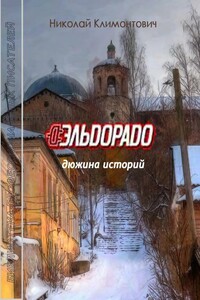Вечером к стоящей на каменистом бугре, на самом юру, кошаре, давно не беленной, крытой дранкой и обнесенной разбитой изгородью, на темной лошади тихо подъехал человек. Он спешился, закинул повод на торчавший в разломе ограды кол — видно, бывал здесь, — увидел слабый огонек в затянутом белой марлей кривом оконце, прислушался к звукам изнутри. Потом — так же неслышно, как привел коня, — приоткрыл дверь, пригнул голову — не задеть высокой войлочной шляпой низкую притолоку, без стука шагнул через порог.
В доме за столом сидели пятеро. Тянули чай из жестяных побитых кружек, отдувались, с хрустом прикусывали сухари, переговаривались нехотя. Один, самый пожилой, пил чай вприкуску: окунал кусок сахара, потом, размяклый, бледно-бежевый, крошил одними губами.
Чай был заварен круто, пахнул во всю комнату.
В дегтярном нутре кружек рябили блики двух неярких ламп, заправленных соляркой и чадивших. Лампы выделяли из полутьмы потные лица сидящих, локти, лежавшие на столе, золотили сбоку бедную посуду: миску с сухарями, железную сахарницу, большой чайник с белой шишечкой на крышке и в ржавых потеках чайник поменьше, заварочный, в цветах, — наконец, смутно рисовали ближайшую стену, растрескавшуюся штукатурку на ней, разводы зимней высохшей плесени, контуры кой-как нарисованных материков.
Никто не заметил вошедшего.
В бензинно-радужной луже заварки, растекшейся по пятнистой, с лысыми проплешинами, с лохматыми ссадинами по сгибам, клеенке, волнилось перевернутое треуглое пламя. Между лужей и локтем одного из мужчин, полного, с широким неровным полным лицом, ближе к его кисти, стояло на тонких, будто выделанных из проволоки в волос толщиной, ногах странное существо — богомол. Все следили за насекомым, разговор шел вокруг него.
Богомол не проявлял беспокойства.
Несколько дней назад его обнаружили в углу дальней комнаты, забыли, но он никуда не ушел. Теперь, извлеченный на самый свет, под взглядами людей, богомол, будто с горя, сложил передние конечности и кланялся, словно просил прощения.
— Знатный экземпляр, — сказал один из сидевших тоном знатока, но не тот, кто сидел к богомолу всех ближе.
Все молча согласились.
Богомол был сантиметров шести в высоту. Но паутинность его конечностей, почти невидимость их, и неприметная пепельно-зеленоватая окраска туловища искажали истинные пропорции: при полной и скорбной своей беззащитности богомол представлялся особенно и нескладно большим.
— Мух вроде меньше стало последние дни, — сказал пожилой.
— Показалось тебе, Николай Сергеевич, — возразил первый насмешливо. — Он мух не ловит, только скорпионов. Мухи — они летают, а он, видишь, все на месте сидит. А вообще-то, я думаю, он и с фалангой справится… если разозлить.
Пожилой не ответил. По всей видимости, ему было все равно.
Молчали и остальные.
Должно быть, у каждого возникло сейчас особенное, двойственное чувство при виде этого несуразного, нелепо равнодушного ко всему существа. Одного щелчка, да что там, одного дуновения было бы достаточно, чтобы эти тончайшие лапки, эти смехотворные щипчики и зубчики на тыльной стороне сложенных передних конечностей, аккуратно подобранные, спрятанные и вложенные верхние меж нижними сейчас, эта сонно покачивающаяся головка, слепая, на нитяной шейке, с подрагивающими усиками, — чтобы все это мигом перепуталось, смешалось, превратилось бы в едва дышащий клубочек, который уж безо всякой жалости подмывало бы тут же раздавить и, раздавленный, отшвырнуть прочь.
— Привык он, что ли? — произнесла единственная среди них женщина.
Отсветы неровно чертили по ее лицу; руки, инстинктивно убранные со стола, были длинны, худы, казались некрасивыми. На женщине была кофта с глубоким вырезом, черные тени лежали в выемках у ключиц.
Она сидела ссутулившись. А говорила высоким голосом, резко, всегда как-то вдруг, отчего слова ее звучали будто особенно громко.
— А может, людей не видел, от этого не боится…
— Как же не видел-то? — возразил тот, кто отзывался о богомоле точно знаток, прежним, чуть насмешливым тоном. — Да он в этой кошаре, считай, всю дорогу и живет. Просто местные их не трогают. Почитают, что ли.
— А что ж овцы его не затоптали? — неожиданно живо вставил пожилой.
— Как его затопчешь-то? Поди затопчи.
— Или не сожрали? — не унимался тот. — Не, это небось, когда мы приехали, мухи поналетели, так он и шасть к нам! Тут и кормежка тебе, и компания.
Женщина не говорила больше.
Она смотрела на пламя, змеившееся за туманным стеклом.
По выражению ее лица можно было понять, что думает она о чем-то далеком или о ком-то. Глаза расширились и остановились. Руки размякли. Встряхнувшись, но еще не сводя глаз с какой-то невидимой точки в темноте, она, пошарив, взяла со стола кружку, по-мужски продев в ручку пальцы и охватив кружку всей ладонью. Очнувшись, сморгнув, подула на горячий край, прежде чем поднести к губам, и пламя в лампах колыхнулось. На секунду заметно стало, что и лицо женщины некрасиво: нос чересчур крупен, а губы тонки и растянуты по-лягушачьи.
Богомол все кланялся, молитвенно согнувшись.
Ощущение его присутствия, будто был он здесь шестым, все видящим и понимающим, но словно наказанным за что-то немотой, повисло над столом.