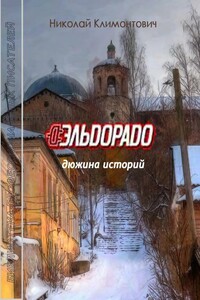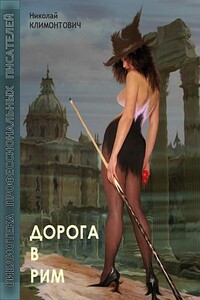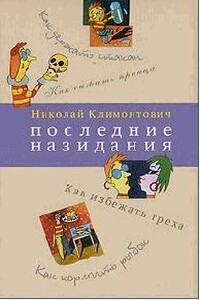Нас было двое в вязаных шапочках. Позже я заметил еще одного, правда, в берете, из другой партии, так что получалось — трое на несколько сот декабристов, каждое утро сбивавшихся на плацу. Преобладали ушанки, хоть стоял только октябрь. Но попадались фуражки, кепки, даже одна велюровая шляпа с подрезанными полями, какие нахлобучивают, отправляясь в парилку, постоянные посетители бань.
Арестанты были распределены по пяти камерам, в каждой человек под шестьдесят. Декабристами мы назывались по месяцу издания соответствующего Указа, предусматривающего ускоренное, без формального следствия и с упрощенным рассмотрением в суде, административное заключение на десять-пятнадцать суток — за хулиганку. Контингент барака составляли мужики, как сказали бы в настоящей тюряге, то есть люди, далекие от собственно криминального мира, преимущественно работяги, которых пристроили сюда жены или коммунальные соседи за буйство в пьяном виде. Реже попадались взятые за дебош в общественных местах, причем последние радовались своей участи: административный приговор по тогдашним законам исключал доследование, а значит — возможный пересмотр дела уже по уголовной статье. Совсем редко сюда залетали бродяги, этих, очень тихих и острожных в те годы, если и заметали, то как правило высылали из Москвы. Были здесь люди и с лагерным опытом, но давно завязавшие. Со мной в столовой колено к колену сидел старик-вор, вида безобиднейшего, Божий человек, он все предавался ностальгии, сравнивая местную неудобоваримую пищу с лагерной: там и масло давали…
Безошибочно распознав друг друга по этим самым шапочкам и берету, мы, интеллигенты, старались держаться вместе, и уже на третий день общих работ нам дана была собирательная кличка студенты, каковыми двое из нас в самом деле были до ареста. Меня загребли при попытке ночью пробраться в аспирантское общежитие к подружке, моего приятеля по камере, студента-философа, — за декламацию цитат из Пира милиционерам, остановившим его, когда он поздним вечером срезал путь к своему подъезду через автомобильную стоянку. Не говоря уж о том, что милиционерам наверняка не пришлась по сердцу теория андрогинов, если товарищ успел ее изложить, и в моем, и в его случаях, учитывая, что оба были в сильном подпитии, у нас и с ними никак не мог бы состояться мирный платонический диалог. Третий, с которым мы сошлись в столовой, куда здешних обитателей запускали разом, был постарше, еврей-биолог, кандидат наук: они шли с коллегой из гостей, того не пускали в метро, он вступился за приятеля, которого отправили на ночь в вытрезвитель, тогда как биолога, поскольку он был трезв по причине обострения язвы, к нам, в пансионат Березки, как называлось это заведение на здешнем языке. Возможно, в названиии этом сквозил арестантский сарказм простолюдинов, которым не светило когда-либо попасть в настоящий номенкратурный пансионат, каковых было немало в тогдашнем Подмосковье, и почти все они березками и назывались.
Наша зона действительно располагалась за городом в сквозной белесой роще и со стороны смотрелась, как настоящая. Правда, не было вышек, собак и конвоя с автоматами, но этого и не требовалось. На работу в город нас возили не в автозаках, но в обычных автобусах без решеток, а на месте вообще никто не охранял. При желании можно было податься в бега, и были такие ходоки, кто сидел в Березках и тридцать, и сорок дней: сбежав и выпив на радостях с товарищами, к ночи они непременно шли домой — выяснять казавшиеся им не до конца уясненными отношения, где их и поджидал участковый; в таких случаях количество арестантских суток автоматически удваивалось. Глядя на этих повторников, трудно было заключить, что их сильно гнетет наказание. Кажется, однажды оступившись и распрощавшись с тринадцатой зарплатой, профсоюзной путевкой в пионерлагерь для детей и очередью на улучшение, эти мужики, раз вкусив радость освобождения от бремени повседневности, относились к заключению, как к добровольному и долгожданному постригу. К тому же, не исключено, что в здешней жизни они находили и многие радости, которыми не баловала их жизнь в миру, где нужно было заботиться о себе, о пропитании и о домашних, и тяжело работать.
Но многие атрибуты были на месте: КП, шмон на плацу по возвращении с работ, намордник на двери камеры, единственное тусклое окошко под потолком, редкие прогулки дребезжащего света осенним воскресным деньком — в субботу, отчего-то, не выводили — под холодным дождиком, двухэтажные нары, наконец, на которым всем не хватало места, так что новички первым делом попадали в разряд вертолетчиков, то есть, в ожидании очереди спали на дощатых лежаках-вертолетах, которые сами приносили по вечерам из подсобки и клали на каменный ледяной пол. Но главное — клацающие запоры, потому что при всем отличии в сторону либеральную от классических мест заключения, это было почти потешное, но все же узилище.
В тот день с раннего утра по камере прошел слух, будто на сей раз нас повезут не на свалку — разбирать мусор, но на табачную фабрику, что было, конечно, невероятным везением и нежданным приключением, и зеки обрадовались, как если бы речь шла о посещении парка культуры и отдыха имени Горького. Среди шести десятков человек, каждое утро рвавшихся на любую работу как на маевку, у нас в камере был и свой отказчик: он не хотел выходить из барака, сидел целый день на нарах и читал неведомо откуда здесь взявшуюся книжку «Горячий снег» без обложки, так что названия ее он не знал. Наказание за отказ было простым: вдвое срезали и без того жидкую пайку. Это был причудливый мужик — с обостренным чувством собственного достоинства и с незыблемыми представлениями о справедливом порядке вещей. К тому ж — везунчик, потому что попал сюда, а не в настоящую тюрьму: он сломал во время семейной ссоры челюсть своей сожительнице, вспоминал о которой добродушно, называл Валюхой, и даже показывал желающим фотку нестарой мордатой деревенской бабы с толстой белой шеей и городским перманентом.