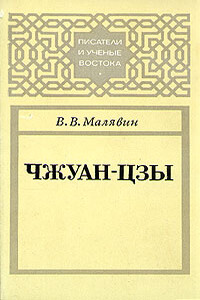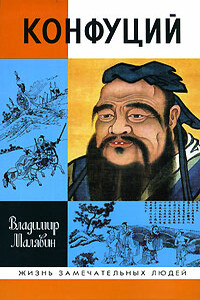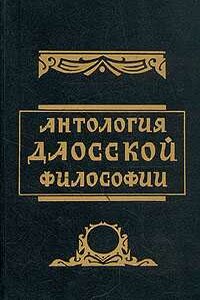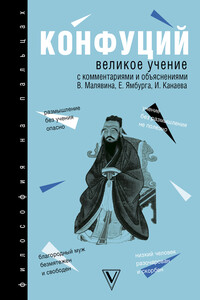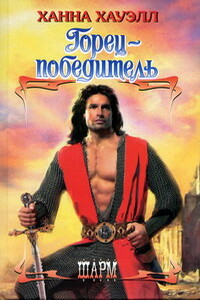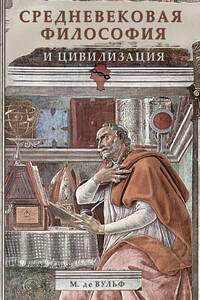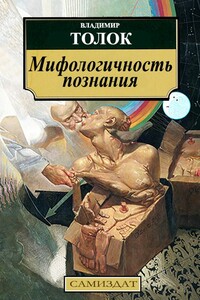Эта книга может показаться не совсем обычной для исследований в жанре творческой биографии, которые объединяет серия «Писатели и ученые Востока». Читатель не найдет в ней ни биографии в собственном смысле слова, ни личной драмы, ни изложения законченной системы идей, ни даже летописи приобретений мысли в ее вечно незавершенном поиске истины. Отчасти виной тому скудость сведений о древнекитайском философе Чжуан-цзы, которому посвящена книга. Но главная причина – в особенностях творческого наследия и жизненной позиции самого Чжуан-цзы или тех, кто скрыт от нас за этим именем.
Нет нужды пояснять, что древний автор, и тем более автор восточный, не имел и в силу своеобразия его исторической эпохи не мог иметь биографии, соответствующей современным представлениям о неповторимо-индивидуальной личности и ее творчестве. Эту «небиографичность» Чжуан-цзы и его мысли нельзя считать лишь анахронизмом и тем более путать с обезличенностью. В жизни есть область, где ни один человек не может смотреть свысока на других. Это область поисков людьми взаимопонимания, без которого не может быть и взаимного уважения. Мы должны понять творчество Чжуан-цзы не только как документ давно ушедших времен, но и как свидетельство человека о самом себе, быть может странное для нас, но в конце концов не более ограниченное и условное, чем наше представление о самих себе.
Хотя в наше время историю искусства и науки нередко сводят к перечню первооткрывателей идей и методов, мы должны помыслить о том, что такой взгляд на творчество задан особым и не единственно возможным складом культуры, что творчество по истокам и назначению своему не может не быть собирательным и жизнеспособная мысль не рождается в одиночестве. Того, кто замыкается в себе, преследует страх быть поглощенным чужой и враждебной стихией. Поэтому он боится доверять своим мечтам и, следовательно, быть свободным по отношению к ним. Но мы должны помыслить и о том, что человек сам может освободить себя от этих страхов. Нужно помыслить о том, что человек не обречен выбирать между ледяной пустыней анонимного обмена информацией, где ничего не происходит и не может произойти, и фатально-разрушительным столкновением противоборствующих жизней.
Наследие Чжуан-цзы зовет к преодолению этих подразумевающих друг друга крайностей псевдокоммуникации. Оно говорит о естественном содружестве непреходящего и неповторимого, индивидуального и со-общительного. Оно говорит о музыкальной полноте бытия, в которой самопознание становится неотделимым от соучастия в мировой жизни, а общее не господствует над частным, подобно тому как музыка, собирая звуки в одно целое, раскрывает несравненность каждого из них. Оттого же, не стремясь быть оригинальным, Чжуан-цзы неподдельно, неподражаемо индивидуален в каждой своей мысли и интонации, в каждом образе, термине, сюжете, ибо он говорит о свободе быть кем угодно, о свободе быть. Его творчество напоминает о том, что изучение чужой культуры – это повод не столько для подтверждения устоявшихся взглядов, сколько для их пересмотра. За ним не стоит «писатель» или «ученый», созданный по образцу современных представлений или являющий полемическую оппозицию им. Его творчество предстает своеобразным зеркалом, которое помогает человеку опознать неведомый образ полноты своего существования, диалектически необходимым (на Западе не меньше, чем на Востоке) моментом человеческого самопознания. В таком случае Восток перестает быть отметкой на географической карте и становится вехой духовного ландшафта человека. Вехой, которая указывает на скрывающегося за всеми образами человека его двойника – неуловимого и вместе с тем не позволяющего человеку утратить сознание своего единства. Это такой образ человека, который, говоря словами Чжуан-цзы, «не может быть» и «не может не быть». Возможно, этот образ покажется кому-то слишком ускользающим и двусмысленным. С этим можно согласиться. Но с не меньшим основанием можно утверждать, что нет ничего постояннее непостоянства и здравомысленнее парадокса. Да и как искать один-единственный «правильный» образ человека, когда мы даже не знаем, где, собственно, границы человека? Ведь даже утверждаемое всеми религиями присутствие священной реальности, не терпящей «скверны человеческого», или жестокость, которую принято называть «бесчеловечной», осознаются нами как сугубая принадлежность человека.
Позволить свершаться диалогу всех голосов мира, позволить всему быть тем, что оно есть, и в этом бесконечно превосходить самого себя – вот миссия человека и подлинно человеческое начало мироздания в представлении Чжуан-цзы. Но хотя Чжуан-цзы признавал равноценность всех форм опыта, хотя его наследие толковалось и толкуется в наши дни на десятки разных ладов, заветы Чжуан-цзы не имеют ничего общего с интеллектуальной вседозволенностью – благодушной и зловещей. Как ни неопределенна позиция Чжуан-цзы, она предельно определена в истине со-общительности. И открыть эту истину – значит – измениться самому. Ибо, как сказал древний автор, у каждого спящего свой мир, но лишь пробудившиеся от сна живут в одном общем мире.