Чжуан-цзы - [3]
Герои Чжуан-цзы не столько даже странные, сколько именно неведомые люди – хотя бы потому, что «неизвестно, где положен им предел». Но – и притом по той же самой причине – кто скажет, что они люди навеки непонятные или недоступные? Ведь они, не имея предела, могут быть повсюду.
Да разве и мы сами не можем стать другими, подобно тому как проснувшийся человек не похож на того, кем он видел себя во сне?
«И ты, и я – это только сон, – говорит Чжуан-цзы устами одного из своих персонажей. – Вот нелепые речи! Но если даже через десять тысяч поколений встретить мудреца, который знает их смысл, то покажется, что минула одна ночь…»
Как бы ни был долог сон для пробудившегося человека он сжимается в одно мгновение. Но кто знает, не является ли пробуждение всякий раз приглашением к очередному сну? Что бы ни существовало на свете, всегда оказывается, что есть еще и другое. Все возможно. Нет истины более банальной и все же более способной стать, будучи воспринятой серьезно, источником неистощимого размышления. Ведь она учит постигать безграничный мир безграничных возможностей.
Нет, не все так просто обстоит с Чжуан-цзы, даже если он иногда кажется простаком. Попробуем отыскать ключ к загадке даосского мудреца в тексте книги, носящей его имя.
Эта книга прошла долгий путь становления. В каталоге императорского книгохранилища, составленном на рубеже нашей эры, упоминается трактат «Чжуан-цзы», состоящий из 52 глав. Спустя три с половиной столетия имели хождение списки, насчитывавшие 26 или 27 глав. Окончательный же вид трактату на рубеже III–IV вв. придал его классический комментатор Го Сян, который выделил в нем 33 главы, разбив их на три категории: «внутренние», «внешние» и «смешанные». Осуществленная Го Сяном редакция текста получила всеобщее признание. Древнейшие известные версии трактата представлены рукописными фрагментами, относящимися к эпохе Тан (VII–IX вв.). Наиболее же надежными из целиком сохранившихся версий книги можно считать ее печатные издания, появившиеся в XI–XII вв.
Наивно думать, что древние переписчики донесли до нас наследие почти анонимного мудреца, не потеряв и не исказив ни одного его слова. В произведениях древней китайской литературы имеется около 60 ссылок на пассажи из «Чжуан-цзы», которые отсутствуют в существующих текстах книги. Известны также названия нескольких исчезнувших глав, и остается только надеяться, что они хотя бы частично вошли в сохранившийся до нашего времени корпус текстов.
Совершенно уникальные трудности сопряжены с филологическим анализом трактата. Чжуан-цзы – не Конфуций, как по своему темпераменту, так и по положению в китайской традиции. Приписываемая ему книга всегда привлекала внимание не столько скрупулезных книжников, сколько мистиков и поэтов, искавших в ней не банальной ясности, а творческого вдохновения. В сущности, серьезная редакторская работа над ней началась лишь с прошлого столетия и все еще далека от завершения, ибо этот даосский памятник пострадал от ошибок безвестных компиляторов и переписчиков так, как, наверное, ни одно другое произведение древней китайской литературы. Но главные сложности создают стилистические особенности языка Чжуан-цзы, насыщенного диалектизмами, редкими словами, аллюзиями на неизвестные нам сюжеты и другими сложными для расшифровки риторическими приемами. Крайне осложняет дело и писательская манера Чжуан-цзы – самобытного, даже уникального в китайской традиции художника слова, стоящего выше словарных норм и грамматических правил. В результате истолкователь трактата слишком часто вынужден решать, имеет ли он дело с очередной ошибкой переписчика, очередной подделкой позднейшего интерполятора или же со словесной фигурой философа-поэта. Слишком часто переводчик Чжуан-цзы вынужден сбиваться на пересказ, то и дело спотыкаясь о фразы, которым можно приписать прямо противоположный смысл. Читатель, который даст себе труд прочесть единственный полный русский перевод «Чжуан-цзы», выполненный Л. Д. Позднеевой,[1] убедится сам, как сложно дать вразумительное истолкование Чжуан-цзы, заботясь одновременно о верности оригиналу и законах русского языка.
Отдельно стоит проблема аутентичности дошедшего до нас текста трактата. В Китае она была поставлена давно, и старые китайские комментаторы потратили немало сил и времени, пытаясь установить, что в книге принадлежит самому Чжуан-цзы. Сейчас нет нужды входить в детали их изысканий. Во «внешнем» и «смешанном» разделах трактата есть немало фрагментов, содержащих недвусмысленные свидетельства их позднего происхождения – вплоть до начала II в. до н. э. Однако попытки найти универсальные критерии аутентичности текста не выходят за рамки произвольных расчетов, основанных на личных взглядах и впечатлениях их авторов. Опыт датировки трактата по ряду лингвистических признаков, предпринятый советским китаеведом А. М. Карапетьянцем, дает основания говорить о наибольшей стилистической однородности «внутреннего» раздела книги. Впрочем, и в других ее частях нет текстов, явно выпадающих из литературной традиции, заложенной Чжуан-цзы.
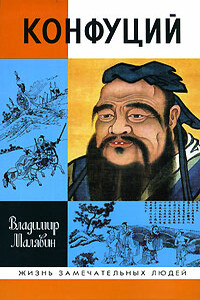
Автор предлагает оригинальный взгляд на жизнь и творчество Конфуция, что позволяет значительно полнее раскрыть причину необычайной жизненности наследия великого учителя Китая. Биограф внимательно прослеживает весь творческий и жизненный путь Конфуция, уделяя особое внимание созданному им философскому, этическому и социальному учению, а также тому, как это учение непосредственно воплощалось в жизни и государственной службе самого философа. Учитывая популярный жанр данной биографии, следует отметить два обстоятельства: во-первых, в книге отражены все основные сведения о жизни и взглядах Конфуция и, во-вторых, решительно все высказываемые в ней суждения о китайской культуре в целом и учении Конфуция в частности могут быть подтверждены многочисленными свидетельствами китайских источников.Основные разделы книги: «Пролог.
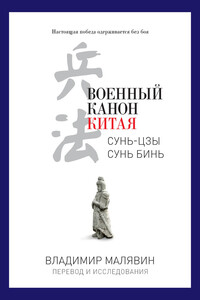
Китайская мудрость гласит, что в основе военного успеха лежит человеческий фактор – несгибаемая стойкость и вместе с тем необыкновенная чуткость и бдение духа, что истинная победа достигается тогда, когда побежденные прощают победителей.«Военный канон Китая» – это перевод и исследования, сделанные известным синологом Владимиром Малявиным, древнейших трактатов двух великих китайских мыслителей и стратегов Сунь-цзы и его последователя Сунь Биня, труды которых стали неотъемлемой частью военной философии.Написанные двадцать пять столетий назад они на протяжении веков служили руководством для профессиональных военных всех уровней и не утратили актуальности для всех кто стремиться к совершенствованию духа и познанию секретов жизненного успеха.
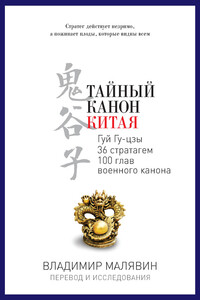
С древности в Китае существовала утонченная стратегия коммуникации и противоборства, которая давала возможность тем, кто ею овладел, успешно манипулировать окружающими людьми — партнерами, подчиненными, начальниками.Эта хитрая наука держалась в тайне и малоизвестна даже в самом Китае. Теперь русский читатель может ознакомиться с ней в заново исправленных переводах одного из ведущих отечественных китаеведов. В. В. Малявин представляет здесь три классических произведения из области китайской стратегии: древний трактат «Гуй Гу-цзы», знаменитый сборник «Тридцать шесть стратагем» и трактат Цзхе Сюаня «Сто глав военного канона».Эти сочинения — незаменимое подспорье в практической деятельности не только государственных служащих, военных и деловых людей, но и всех, кто ценит практическую ценность восточной мудрости и хочет знать надежные способы достижения жизненного успеха.
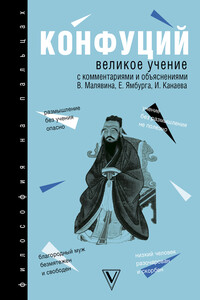
Конфуций жил две с половиной тысячи лет тому назад. Он не совершил гениальных открытий, но имя его стало подлинным символом народной мудрости, а слава о нем облетела весь мир и не меркнет до сих пор. В чем же секрет наследия Конфуция? Он был Учителем человечности в человеке. Начни исправлять мир с самого себя; прежде чем поучать других, позаботься о собственном совершенствовании, стань творцом культуры – вот главный завет философа. Он говорил, что самообладание, здравый смысл, скромность и усердие способны привести любого человека к вершинам мудрости, сделать его хозяином собственной судьбы.
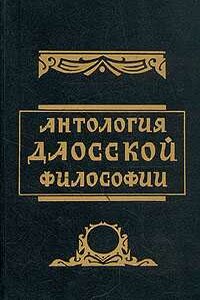
Эта книга — первый не только в нашей стране, но и в мире опыт издания антологии даосизма. Лучший способ понять, что такое даосизм — научиться ценить в жизни не умное, даже не доброе, а просто долговечное, неумирающее, что бы то ни было. Даос живет тем, что живо во веки; он живет самым надежным — капиталом духа. Правда Дао — это то, что дается нам прежде, чем мы познаем самих себя, и она есть то, что перейдет от нас к будущим поколениям после того, как мы уйдем.

Книга содержит систематическое изложение принципов и практических приемов боевой и оздоровительной гимнастики тайцзицюань, сложившейся в русле китайского даосизма. Она включает в себя комментированный перевод корпуса классических текстов тайцзицюань, в большинстве своем ранее недоступных русскому читателю. Книга обращена к широкому кругу читателей, интересующихся традициями духовного совершенствования на Востоке.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.