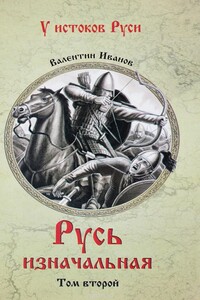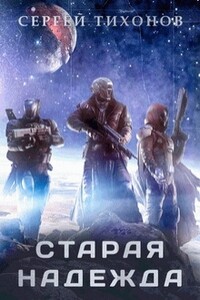Полночь.
Часы на Торговой палате бьют двенадцать, их дребезжащий металлический звон разносится повсюду — даже до вечно заболоченных улочек Здравца. Потом опять все стихает; льющееся с безлунного неба голубоватое сияние окружает дома и деревья прозрачным ореолом и делает город каким-то нереальным.
Наступает новый, девятый день сентября 1944 года.
До утра еще далеко, но едва ли кто-нибудь, кроме детей, спит в эту ночь. Да и как уснуть, когда на том берегу реки, всего лишь в двух-трех километрах от центральной площади, находятся части наступающих советских войск. «Москва объявила Болгарии войну», — сообщалось в позавчерашнем, последнем номере местной газеты; только какая-то чудна́я война получается: никто не стреляет, нигде не ведется никаких приготовлений к боевым действиям. Напротив, безмолвие словно сгустилось, еще в сумерках приостановилось всякое движение — ни тебе прохожих, ни повозок, ни автомобилей, даже собака не прошмыгнет из подворотни. И вопреки безмолвию, вопреки тому, что замерло всякое движение, все до такой степени напряжено, будто с минуты на минуту последует взрыв. Всё чего-то ждет — с надеждой или страхом, с самыми противоречивыми предположениями. Что же будет дальше? На радость взойдет слабеющее, но все еще летнее солнце или грянут новые беды?
За кинотеатром «Одеон» — пышный особняк в стиле барокко; по-видимому, когда-то здесь жили люди искусства, теперь же, во мраке, дом выглядит каким-то ободранным и запущенным, и вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову, что это зловещий притон агентов Общественной безопасности. Перед домом стоит один-единственный «опель», тоже старый и тоже обшарпанный, а ведь совсем недавно тут не смолкал рев мотоциклов с колясками и без колясок, полицейских автобусов, юрких пикапов, кишмя кишели люди — куда-то спешившие, неуклюжие, с бычьими шеями.
В сотне метров отсюда, почти рядом с турецкой баней, под сенью двух тополей — самый важный по своему значению и по «огневой мощи» полицейский участок с арочным входом. Но и он опустел — часовой, что постоянно торчал в трехцветной полосатой будке, исчез, как сквозь землю провалился, махнув рукой и на свою службу, и на пост, и на высший долг перед царем и отечеством, хотя об этом долге только и разговоров было в последнее время.
В другой части города, в самом конце Александровской улицы, где она расстается со своим пышным убранством и скромно петляет по ухабистой булыжной мостовой в сторону товарной станции, окруженной жалкими хибарами, расположился Пятый полк — казармы, конюшни, сеновалы, деревянные бараки, навесы, широко распростершийся плац, обнесенный колючей проволокой в четыре ряда; со стороны улицы проволоку заменяет низкая кирпичная ограда и живая изгородь — кустарник, посаженный здесь для того, чтобы хоть немного скрыть от постороннего взгляда неприветливые постройки. Парный патруль, круглосуточно сновавший перед расположением полка, тоже исчез, лишь возле побеленной известью караулки топчется ссутулившийся солдат — когда он поворачивается в сторону уличного фонаря, на острие его штыка вспыхивает красноватый отблеск.
И Пятый полк притих, и он молчит, хмурый, неприветливый, хотя даже с его плаца можно уловить все, что разыгрывается по ту сторону Дуная. А там, в порту Джурджу, светится целое ожерелье желтоватых точек, их отражения тоненькими длинными змейками бегут по воде и никак не могут от нее оторваться. И слышится рокот мотора, глухой, непрерывный и настойчивый, словно это не мотор гудит, а тупая боль сверлит тебя изнутри.
Нет, в эту ночь не заснуть!
Не потому, что никак не уляжется ужас, постоянно нагнетаемый армадами бомбардировщиков, устремляющихся к нефтеперегонным заводам Плоешти, — их полеты прекратились недели две назад.
И не потому, что разрозненные колонны немцев, утративших бравый вид и парадный лоск, запыленных, жалких, под покровом ночи лихорадочно переправляются на понтонах, отступая на юг, к Югославии и Греции, — их последние части ушли месяц назад.
В эту ночь не дает уснуть необычное молчание, предчувствие разительных и неотвратимых перемен, от которых — на счастье или на беду — никому не уйти, неизвестность, повисшая над каждой крышей, словно страж, словно судьба.
И Николай не спит. Он валяется на кушетке в гостиной не раздеваясь, мечется как на угольях. Его давит обида, одиночество и отчаяние: друзья собрались в доме Лозева, выпускника технического училища, возглавившего группу ремсистов[1] после провала Чампоева. Там, в трехстах метрах от матросских казарм, в полукирпичной, полудеревянной развалюхе, принадлежащей безрукому отцу Лозева, они ждут приказа Кузмана, приказа о развертывании боевых действий, о начале боя. «Настал решительный час», — сказал он им еще вчера, собрав их в саду напротив женской гимназии, сказал совершенно открыто, без оглядки на строгие правила конспирации. И велел явиться на сборный пункт с оружием, хотя прозвучало это слишком громко — ведь у них и есть-то всего-навсего один допотопный револьвер, одна граната времен первой мировой войны (бог ее знает, взорвется она или нет!) и дамский браунинг, инкрустированный перламутром, по всей вероятности позаимствованный из реквизита местного театра.