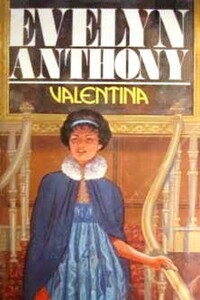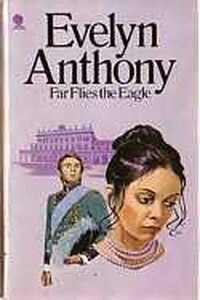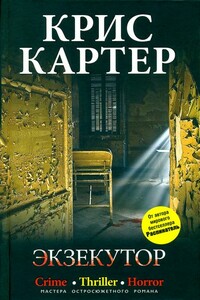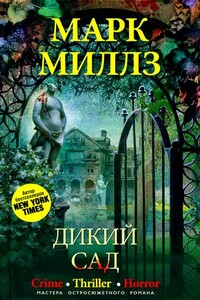В костеле было темно и прохладно. Пахло ладаном и воском; кругом стояли статуи: Дева Мария с младенцем Христом на руках, святые в экстазе. Изображения были раскрашены и позолочены, стекляшки, имитирующие драгоценные украшения, поблескивали в тусклом свете. Рисуя в воображении день свадьбы, Анжела и представить себе не могла, что она произойдет в таком месте.
Они прошли мимо алтаря, держась за руки, почтительно замедлив шаги возле фигуры Спасителя, поникшего на кресте.
– Подожди здесь, дорогая, – сказал он. – Пойду поищу священника.
Она уселась на шаткий стул. Скамей в храме не было.
Какая-то женщина, ползая на коленях, натирала пол.
* * *
Они съехали на автомобиле с крутого холма по узкой, изъезженной грунтовой дорожке. Деревня лепилась к склону, будто выросла прямо из скалы. Они оставили джип на крошечной площади, потом он взял ее за руку и повел по вымощенным булыжником улочкам, чтобы показать, где родился его дед. Домишко бедный и убогий, с крошечными окошками и такой низкой дверью, что человек нормального роста не мог войти в нее не пригибаясь. В маленьких горшочках и в трещинах стен Цвели кроваво-красные герани. В верхнем окне вяло шевелилось мокрое белье.
Жара застилала глаза, воздух, который они вдыхали, был насыщен красной сицилийской пылью.
– Его тоже звали Стефано, – сказал он ей. – Так мы назовем нашего сына. Пойдем в костел.
Женщина кончила натирать пол. Она выпрямилась, потирая спину, чтобы облегчить застарелую боль, обернулась и какой-то миг смотрела прямо на Анжелу. Ее лицо было морщинистым и блеклым, как старая географическая карта. И без всякого выражения. Она подхватила ведро с мастикой, запихнула туда тряпки, потом с трудом опустилась перед алтарем на одно колено и перекрестилась свободной рукой. Интересно, подумала Анжела нашел ли Стивен священника. Старуха вышла, и Анжела услышала, как закрылась дверь. Надо помолиться, подумала вдруг девушка. Даже в этом чужом месте с его приторно-тяжелыми запахами и гаснущими свечами она должна вспомнить, чему ее когда-то учили, и помолиться о Божьем благословении в день свадьбы.
Как это не похоже на то, что она рисовала в своем воображении! Церковь дома, в Суссексе, где мать постоянно помогала расставлять цветы, а отец раз в месяц прилежно читал главу из Библии. Викарий, который крестил ее, венчал бы ее с каким-нибудь безликим юнцом, позади них лентой вились бы подружки, а скамьи были бы заполнены друзьями и родственниками в аккуратных костюмах и в шляпках с цветами. Военных среди них не было, потому что все это рисовалось ей до того, как началась война и их жизнь так изменилась. Теперь ее брат не может быть шафером, его нет в живых, он погиб во время воздушного налета на Германию в 1942 году. А она выучилась на медсестру и уехала в дальние края, а многие молодые люди погибли. Она не встала на колени; закрыв глаза, она попыталась мысленно произнести какую-нибудь молитву. Это оказалось нелегко. Все нужные слова вылетели из головы. Я люблю его, пожалуйста, Боже, пусть мы будем счастливы.
* * *
Священник – с широкой лысиной на макушке, в пыльной и грязной сутане – поднял глаза на капитана американской армии и медленно спросил:
– Зачем вы явились? У нас теперь спокойно. Вы нам не нужны.
– Я приехал не за этим, – был ответ. – Я по личному делу, падре.
– Вы приехали, чтобы привести за собой людей, проливающих кровь, – сказал священник. Он был в очках; теперь он снял их и протирал рукавом. – Для Фалькони здесь ничего нет, – сказал он. – Ничего.
– Вы не поняли. Вы меня не слушаете. Послушайте меня, падре.
– Слухи доходят даже до Альтофонте, – ответил священник. – Американцы привозят вас назад, чтобы вы мучили нас. Пили нашу кровь, как все те годы до того, как мы вас прогнали. Альтофонте – бедное селение. С нас нечего взять. Из трупа не выжмешь ни капли крови. Так и скажите своим людям.
– Здесь родились мои деды, отец и мать, – тихо произнес Стивен Фалькони. – Я приехал сюда жениться. В этом вы мне не можете отказать. Больше мне от вас ничего не надо. Я привез невесту; она ждет в храме.
– Нет. – Священник поднялся, и шаткий стул облегченно скрипнул. – Я не обвенчаю вас. На ваших руках кровь.
– Она носит моего ребенка, – сказал Стивен Фалькони. – Во имя чести, я прошу обвенчать нас.
– Нет, – ответил священник и открыл дверь сакристии[1], выходящую в церковь. Там в полутьме он увидел сидящую на стуле девушку в форме медсестры. – Я не отпускаю вам грех. Забирайте женщину и уходите.
Стивен Фалькони не двинулся с места.
– Падре, если вы обвенчаете нас, мы забудем, что на свете есть Альтофонте. Вас оставят в покое. Я обещаю, что никто вас не потревожит. Никогда. – Он подошел к двери и тихо закрыл ее. – Вы никогда не увидите и не услышите нас.
Это был верный и испытанный прием в переговорах. Окажите услугу – и получите услугу взамен. Откажете мне... Тогда выбора нет. Священник понял.
– Вы клянетесь?
– Честью моей семьи, – был ответ; оба знали, что эта клятва никогда не нарушалась. Как обет молчания.
Священник вздохнул.
– Бог простит вас. И меня.
– Я подожду вас снаружи, – сказал Стивен Фалькони. – Вы приняли мудрое решение. Вы об этом не пожалеете.