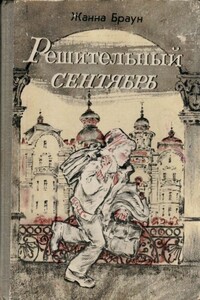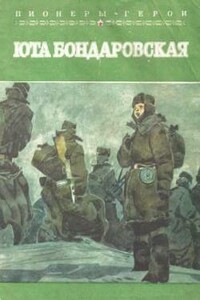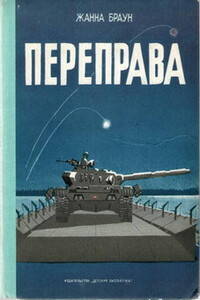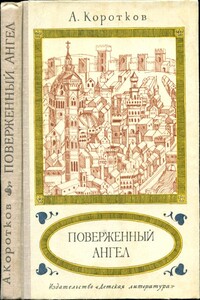Жил-был поп, толоконный лоб,
Пошёл поп по базару…
— Я знаю, — сказала Зорька. — Это про Балду. Мне мама, ещё когда я в детском саду была, читала.
— Вот как? — Вася удивился. — Ну, а эту?
Он приподнялся на локте и сказал скороговоркой:
Три сестрицы под окном
Пряли поздно вечерком.
Говорит одна сестрица…
— Кабы я была царица, — подхватила Зорька, уже весело поглядывая на вытянувшееся, огорчённое лицо Васи.
— И про репку знаешь? — недоверчиво спросил он.
— Знаю!
— И про… про… про… — Вася сокрушённо почесал за ухом и решительно стукнул кулаком по столику. — Нашёл! — свирепо хмуря брови, сказал он. — Голову даю на отсечение — не знаешь!
У старинушки три сына.
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк…
— Младший вовсе был дурак, — ехидно пропела Зорька и прикусила нижнюю губу, сдерживая смех.
— Петро, — слабым голосом сказал Вася, — подкинь табачку на поправку здоровья, совсем уморила, окаянная девчонка.
— Вася! — потребовала Зорька. — Сказку! Ты же обещал сказку!
— Дело! Давай! Василий Петрович, загни сказку повеселее, — сказал Петро, баюкая больную руку.
Вася положил кисет с табаком на столик, откинулся на подушку и сложил руки на груди.
— Значит, сказку желаете? Так ты же, Зорька, все сказки на свете знаешь.
— Не все, не все, я про волшебное люблю.
— Ага! Так вам про что, как жила на свете баба-яга, гипсовая нога, или особенное?
— Давай особенное.
— Ну-с, так вот, — серьёзно и торжественно начал Вася, — ни далеко, ни близко, ни высоко, ни низко, ни в лесу на дереве, ни в посёлке, ни в деревне, а короче говоря, жил в одном из городов столичных Доберман Пинчер.
Хоть имя он носил не русское, не французское, не английское, не турецкое, а самое настоящее немецкое — ненавидел Доберман Пинчер фашистов лютой ненавистью. Необыкновенный это был…
Но Вася так и не успел досказать, кто же это был Доберман Пинчер… Поезд неожиданно дёрнулся, заскрежетал тормозами. Мимо окон поплыла и тут же застыла маленькая деревянная станция. Раненые заволновались, поднялся шум.
— Сестра, письма, письма отправьте!
По проходу бежала Люба.
Зорька испуганно оглянулась на Васю.
— Вася, — потерянно сказала она, надеясь, что хоть он заступится и ей позволят остаться, — Вася…
— Ну, ну, — сказал Вася грустно, — раз надо, значит, надо, помнишь уговор?
Он оторвал кусочек газеты, быстро написал что-то огрызком карандаша и сунул клочок Зорьке.
— Это моя полевая почта. Не знаю, куда меня завезут лечиться, но в свою часть я обязательно вернусь, поняла? И будь человеком, пожалуйста. Помни: так надо.
Что ж, раз надо, так надо. Зорька встала и пошла за Любой, крепко сжимая в руке клочок газеты с Васиным адресом.
Маря в спортивной майке и лыжных шароварах шагала по вагону вокруг печки, как на физкультурном параде, и колотила поварёшкой по кастрюле.
— А ну, подъём! Подъём! — выкрикивала она. — Вставайте, девоньки, сейчас стоянка начнётся, кипяточку наберём!
Никому вставать не хотелось. Утро ещё только заглянуло в маленькое оконце под потолком.
Да и зачем?
Ворчали: все леса проехали, одна степь крутом серая, потресканная. А ещё пески попадаются неровные. В таких песках колючки одни растут. Разве можно в таких местах жить? Куда же они всё едут и едут?
— Кипяточку наберём, чайком побалуемся! — нараспев выводила Маря.
— Опять сухарики жевать! — пробурчала Наташа. — Надоело!
Маря перестала стучать. Пригорюнилась.
— И то правда… А что делать, если продукты кончились?
— На станции требовать. Мы дети, нам всё лучшее положено давать!
Галка уселась на нарах, свесила ноги в рваных чулках.
— Точно! — хриплым со сна голосом сказала она. Откашлялась и добавила солидно: — Дети — цветы жизни.
— Тю на тебя! — Маря вся заколыхалась от смеха. Грохнула кастрюлю на печку. — Колючка ты нечёсаная, а не цветок. Парни сами себе рубахи стирают, а ты чулок зашить не можешь и ещё требуешь. Где ж тебе возьмут лучшее-то? Вот приедем на большую станцию, отоваримся. Опять вам суп сварю. Потерпите трошки.
— Сами так жрут в три горла, — сказала Наташа, — а тут…
— Ты шо брешешь?! — возмутилась Маря. — Кто сами? Николай Иванович ещё с гражданской желудком больные, тоже на сухарях сидят. Вера Ивановна еле ноги таскает. Совести у тебя нет, а ещё староста! — И, уперев руки в бока, крикнула требовательно: — А ну, давай поднимайся! Совсем разленились, бисовы дочки! Целыми днями сидят нечёсаные, немытые. Куда такое годится?!
Шагнула к нарам, схватила Наташу за руку, стянула на пол.
— Маря, ты что?! — Наташа трепыхалась в сильных Мариных руках, как рыба в садке.
— Ничо́го, ничо́го… — приговаривая, Маря подтащила Наташу к рукомойнику, ловко вымыла ей лицо, уши. Растёрла щёки полотенцем. На фарфоровом лице Наташи появился румянец. Чистый нос заблестел.
Маря, пыхтя, уселась на ящик, зажала Наташу коленями, чтоб не удрала. Вытащила из своих волос круглую щербатую гребёнку.
— Ишь как волосы свалялись!.. Лодырка ты, Наталья, бисова дочь. Не дам таким гарным волосикам пропасть!
Девочки с интересом смотрели, как Маря расправляется с Наташей, и хихикали.
— А ну цыть! — Маря пригрозила им гребёнкой. — Сейчас до вас доберусь! Всем воши повычёсываю!