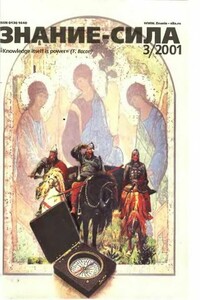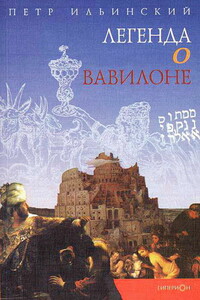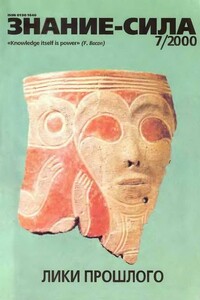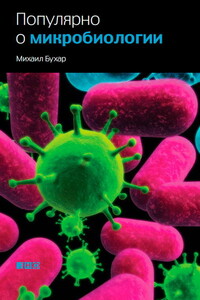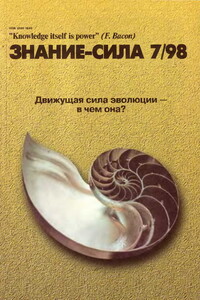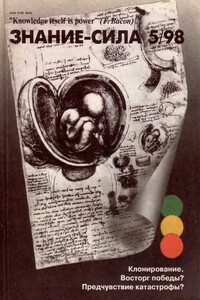С собой у меня был нож, но уж никак не для борьбы с медведями. Шкерочный нож, или камбалка — специально для работы с рыбой, широкий с тупым концом. Таким пользуются на рыбзаводах, его все время подтачивают, он становится все тоньше, тоньше и, когда превращается в серпик, его выбрасывают и берут новый.
Говорят, в таких случаях просыпается какая-то сообразительность и ловкость, люди взлетают на верхушки деревьев. Не знаю, но ничего подобного во мне не проснулось. Там, правда, и деревьев-то таких не было, куда бы взлететь. Единственное, что я успел и смог сделать, я выставил свой ножичек вперед, а левой рукой прикрылся. Медведь схватил ее и начал грызть. Я был совершенно уверен, что слышу хруст костей. Я же упер ему свой нож в шею, но пропороть ее, конечно, не мог.
Так мы с ним и боролись. Он кусал меня за руки. Особенно старательно он грыз левую, мочалил и мочалил ее, а правой я все-таки как-то удерживал его на своем ножичке.
Похоже, у него тоже неважно было с опытом единоборства, иначе бы все закончилось очень быстро и уж не в мою пользу, это точно. Ссадины потом оказались у меня и на других частях тела, но тогда я даже не замечал, как это у него получалось, доставать меня всюду. Один раз он съездил мне лапой во лицу, но глаз не задел.
• В эти глухие места на забайкальские озера, уверен Сергеи Алексеев, «в ближайшие десятки лет никто, кроме меня, не попадет. И весь материал надо вынести на себе, а после обработки передать в музей». И все это пешком — по осыпям, россыпям, через речки. Нормальный человек, говорит коллега Алексеева Михаил Мина, так уже не работает. Но что и когда делалось у нас нормально?
Не думаю, что все это продолжалось долго. В конце концов он меня завалил, и я понял, что это все. Ясно помню хруст — это он раскусил браслет часов на моей руке. Там они теперь где- то и лежат, не смог я их найти.
И все-таки я как-то ухитрился снова встать. И все началось заново. Единственно, что делал мой ножик, это слегка его душил, давя на горло. От этого ему было, по-видимому, несколько дискомфортно, в какой-то момент мы с ним снова распались на два комка, и он дернул в кусты, а я побежал к зимовью и заскочил в него.
Запереться там было нельзя, но дверь я как-то прикрыл. Уже наступила ночь, я прыгал по зимовью от боли. Одной рукой разорвал рубашку, кое- как замотал левую. Она была вся разворочена. Правая тоже была прокушена почти насквозь, но ею я мог все-таки что-то делать, левая же на моих глазах стала таких огромных размеров, что страшно было смотреть.
Так я пропрыгал до утра. Выходить я боялся. Рюкзак я бросил там, где мы сражались, ничего у меня не было. Попил из какой-то банки застоялой волы. Пить хотелось жутко.
Еще с вечера я разулся и разделся, чтобы хоть что-то сделать с собой и, когда начало светать, начал собираться. Не знаю уж как — одной рукой — едва намотал портянки, не представляю, как мне это удалось. В зимовье отыскал старую рыбацкую пешню, взял ее. Держать ее мне было почти нечем — прокушенной рукой, но все-таки какое-то оружие.
Я вышел... Никого. Собаки тоже не было. Отыскал рюкзак и поковылял обратно.
Идти надо было километров пятнадцать. Опять тот же перевальчик, потом по берегу Большого Леприндо, снова небольшой перевал — уже к Гольцовому озеру.
Я увидел их издали, своих коллег, когда подходил к тому месту, где надо подниматься к Гольцовому озеру. Они спускались мне навстречу. Оказывается, их насторожила собака. Она вечером еще дернула по обратному следу, прибежала к ним, забилась под палатку и отказывалась вылезать и вообще как-то реагировать на все происходящее, даже еда ее не интересовала. И коллеги поняли, что случилось что-то неладное. Но беда в том, что никто из них короткую дорогу на то озеро не знал. Они, разумеется, пошли меня искать, но я не уверен, будь я ранен сильнее, что они бы меня быстро нашли. И тут я... С рукой на перевязи, весь заляпанный кровью.
Сцена была не немая. Началось бурное объяснение. Потом мы побежали на бамовскую дорогу, удалось быстро поймать машину, и я оказался в больнице в Чаре. Швы накладывать было поздно, раны уже начали гноиться.
Никуда они, конечно, не поехали. Да вездехода так и не было. Коллеги мои стали собираться домой, а я сбежал из больницы и вернулся в Москву вместе с ними. И уже тут продолжил курс уколов от бешенства. Так бесславно окончилась наша первая попытка проникнуть на озеро Большой Намаракит.
И все-таки они попали туда. Правда, семь лет спустя, осенью девяносто пятого.
— Действительность, — говорит Сергей, — как всегда, оказалась бледнее рассказов. Это был, конечно, никакой не новый вид и не тот чукотский голец. Но рыбы оказались необычными. Крупных мы не поймали. Похоже, они есть там, но очень уж мало. Но карлики и мелкие были такие, каких больше нет не только в Забайкалье, но и вообще нигде: эта белая отметина на спинных плавниках и сами плавники, особенно у самцов. У некоторых так очень увеличенные. И еще оказалось, что карлики и мелкие различаются по числу хромосом на две хромосомы. А это очень большие различия для внутривидовых форм гольца и не только гольца. И вообще это были первые в истории сведения по генетике забайкальских гольцов. Вдохновляющий результат. Вот после чего я и решил продолжить изучение забайкальских гольцов более широко.