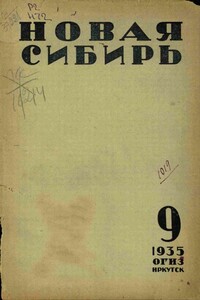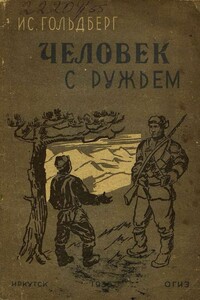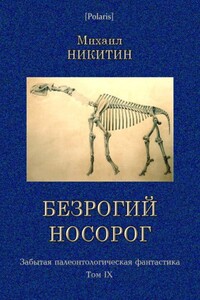Счетовод обвел правленцев и коммунаров, внимательно вслушивавшихся в его слова, торжествующим взглядом и добавил:
— Учет — дело серьезнейшее! Не даром вожди об учете директивы генеральные написали!
Феклуша Баландина, подручный счетовода, пригнулась к столу и спрятала веселую усмешку: эти слова своего начальника она слышала уже не раз, и каждый раз ей становилось смешно от них.
Но Степан Петрович, то ли от внушительных слов про вождей, то ли от объявленной счетоводом низкой цифры выполнения плана, весь ссунулся вниз, осел за столом и молча пожевал губами. Угрюмое молчание оборвал Зайцев.
— Процент позорный! — крикнул он, подымаясь над столом. — За такой процент нас всех бить надо! Беспощадно бить!
— Да-а, — покрутил головой Лундин. — Бить без сожаленья! Это не работа, а... — он покосился в сторону Феклуши. — Сказал бы я какая, да девицу конфузить не хочу...
— Нам понятно! — уронил кто-то, невесело засмеявшись.
— Если понятно, так сердечно доволен я.
— Три четверти плана! — рубнул ребром ладони по столу Зайцев. — В коммуне! когда на себя работали! добровольно и с полной свободой!.. За это судить надо! Руководителей!
— Ты, товарищ Зайцев, тоже тут был... в руководителях... — напомнил Степан Петрович.
— И меня! И я неотпорен от ответственности! Сколько доли моего упущения, столько и взыскать с меня надо!
Андрей Васильевич ухватил минутную передышку в гневной речи Зайцева и примиряюще заметил:
— Семян не было. Каки тут планы, ежли сеять нечем! Искали, шуровали заблаговременно. Их не родишь, ежли нету...
— С кормами весною тоже плохо было, — напомнил Николай Петрович. — Тоже руки опустили, а взялся самый простой человек, Оглоблин Василий, корма и нашлись!
Коммунары сбросили с себя хмурую настороженность, заговорили.
— Пробовали, ну, ничего не вышло!
— Кои хлеб попрятали, так успели захоронить его, что и недоищешься.
— А кои на базар сплавили! Продали!..
— Продавали втихаря и коммунары, — напомнил Лундин.
— Не знаем! Мы не продавали!.. — сухо и неприязненно ответили Лундину.
— Сказать все можно. От слов, конечно, ничего не доспеется...
Слова Лундина. очевидно, сильно задели коммунаров. Но Зайцев крепко ухватился за предположение.
— Ясно! Некоторые шли в коммуну вроде как на иждивение. Государство, мол, все даст, валяй, ребята, разбазаривай свои животы! А то не понимали, что самим потом туго станет, вот как теперь.
Счетовод наклонил голову и, как-то сбоку прислушиваясь к тому, что возле него говорилось, перемешал стопочку тетрадей перед собою и выжидательно поглядел на председателя.
— Еще что? — спросил тот обреченно.
— Насчет состояния задолженности...
— Обсуждали в прошлый раз.
— Бумага получена от райколхозсоюза. Взнос за трактор. Пятьсот.
— Ладно! — махнул рукою Степан Петрович. — Опосля!
В правлении стоял глухой шум. Разговаривали в разных углах приглушенно отдельные группы коммунаров. Зайцев перегнулся к Лундину и горячо что-то ему доказывал. Николай Петрович, недовольно морщась, выслушивал какие-то путанные объяснения Андрея Васильевича. Счетовод усмехнулся, поджал губы и понизил голос:
— На прошедшей неделе срок был...
— Ладно! — повторил председатель и круто отвернулся от счетовода.
Лундин между тем выслушал Зайцева, отодвинулся от него, и громко заявил:
— Теперь, конечно, поздно пререкаться да корить друг друга. Но, между прочим, не мешает разъяснить всем о положении. А то некоторые бузят. Вышла небольшая нехватка в столовой, а там митинги завелись, буза. Огорочаются на коммуну, а того не понимают, что каждый виноват. Сознания мало общего. Разброд идет. Кто-то этим хитро пользуется.
— Что касаемо столовой, — встрепенулся завхоз, — так там заминка с хлебом выходит. Приварок у меня имеется. Жаловаться грех. А хлеб, насчет хлеба не спорю, маловато его выдаем. До-отказу наесться невозможно.
— Иные по единоличному состоянию гораздо хуже ели. Чего они нонче волынят? Простое это трепанье!..
Степан Петрович пробовал проговорить это бодрым голосом, немного даже укоризненно, но взгляд Зайцева смутил его.
— На то и коммуна, чтоб было в ней лучше, чем в прежнем в бедняцком состоянии. На прежнее нечего равняться. Это политика оппортунистов. В болото лезешь, Степан Петрович, в болото!
Было уже поздно. Летняя ночь мягко льнула к окнам. Лампочка чадила, под потолком трепались клочья табачного дыма. У Феклуши слипались глаза, и она часто зевала, стыдливо прикрывая рот красной, измазанной чернилами рукой. Но правленцы не собирались расходиться.
И так до-поздна светились одиноко по всему селу окна правления. До-поздна шли разговоры, то переходя в жаркий спор, то затихая.
3.
Скот нагуливал бока. Марья, встречая в скотном дворе возвращавшихся из стада коров, умильно тянула:
— Красавушки-и! Родненьки-и! Да какие же вы пригожие, да гладкие, да пристойные!..
У Марьи были в стаде любимицы. Сначала она по старой привычке тянулась к своей чернухе и к ее теленочку и порою втайне вздыхала, что пришлось их отдать в общий гурт. Но, принявшись от коммуны хозяйничать возле скота, она вскоре перестала различать своих от чужих и отметила лучших, породистых коров, которые ласкали глаз и восхищали удоем. Из них лучшей была Пеструха Устиньи Гавриловны. Возле этой коровы Марья вилась как возле родной дочери. Ее награждала самыми ласковыми именами, ей источала весь пыл и все восхищенье свое. Товарки по скотному двору иногда посмеивались над Марьей: