Жизнь — минуты, годы... - [6]
— А-а-а, здравствуйте, Василий Петрович, как жизнь?
Ну и везет же мне на приятные встречи!
— Извините, товарищ бухгалтер, я тороплюсь… на собрание.
— Вы по Воссоединению? Пойдемте, мне все равно куда. Вы не слыхали?
— Нет, не слыхал.
— Говорят, наш добрый друг Клим Климович поехал защищать кандидатскую. Собственно, я не могу поверить. Вы знаете его возможности?
— Нет, не знаю.
— Кажется, он экономист.
— Кажется.
— Интересная наука. Я, верите ли, умею понимать язык цифр. Курите, Василий Петрович?
— Спасибо, не курю.
Сейчас удивится, словно никогда не слышал.
— Да что вы говорите, Василий Петрович?.. Вы же когда-то одну за другой…
— Было. Прошло.
— У вас есть сила воли… Простите, Василий Петрович… но ведь мы мужчины: правда ли, будто у вас… тут женщины на работе… Будто бы с женой у вас… Простите мне, ради бога, мою бестактность, я просто по-дружески. Ведь ваша жена у меня работает… понимаете…
— Уж если вы, бухгалтер, что-то слышали, значит, точно, что-то есть.
— Шутить изволите, Василий Петрович?
— Мне не до шуток, по крайней мере сегодня. Сейчас…
— Я прошу извинить меня, что вмешиваюсь в ваши, так сказать, семейные…
— Пожалуйста, продолжайте.
— Я считаю, что общественность, так сказать, не может стоять в стороне, наша святая обязанность вмешаться, во всяком случае, я так понимаю свою роль в обществе.
Попроси дурака хлеба нарезать, так он и палец отхватит, ждет, чтобы в газете похвалили: дескать, герой, не стоял в стороне, вмешался. Спасибо, а теперь пошел ко всем чертям, в печенках сидишь…
— До свидания.
— Вы простите, ради бога. По правде говоря, мне с вами не по пути, но я не могу оставаться, так сказать…
— А вы встаньте вот здесь и кричите на всю улицу.
Осел, а между тем разбирается. Какая там любовь? Первая заповедь обывателя: соблюдай добропорядочность, следи за чистотой верхней одежды, главное — внешний вид… Ведь существуют же этакие философы, которые рассуждают: как можно терпеть такую частную собственность, как семья? Давайте ее обобществим… Не проще ли совать свой длинный нос, пусть даже через замочную скважину, в чужие супружеские постели. Не пережитки ли это: я сам по себе, и не дышите над моим ухом, и семья — это моя семья, не ваша. Как не наша? Все наше!
И снова мысль вернулась к той самой «их среде». Он стоял, положив на ее плечо руку, и чувствовал, как сильно билось ее сердце, на блузке были маленькие белые пуговицы, пять пуговиц, они расстегивались совсем легко, а она молчала.
Осколок сбил туфли вместе со ступнями, второй осколок снял поношенную юбку (смотрите, смотрите!), И сорвал с плеч блузку, а под блузку война ничего не надела: ни сорочки, ни бюстгальтера (смотрите, смотрите!). Снял осколок с плеч и девичью голову…
Не отворачивайтесь, это же для кого-то привычное зрелище, как стриптиз.
Правда, не на сцене, освещенной прожекторами, не в фешенебельном баре в центре Парижа.
Здесь светит пламя пожаров. И кому-то это нужно, иначе во имя чего бы ей, такой молодой, снимать с плеча золотоволосую голову.
Быстро застегнул все пуговицы и лег рядом, лицом вверх. Сквозь реденький шатер из ветвей акации просвечивалось синее небо. Много-много гектаров немереного неба с жаворонками, аэростатами облачков, с ласковым в хорошую погоду и гнетущим в засуху солнцем. Вспомнил Болконского из «Войны и мира» и мятежные чувства охватили его.
(«Над ним не было ничего уже, кроме неба — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками… «Как же я не видал прежде этого высокого неба?»
Л. Н. Толстой)
Прикрыл глаза и увидел маленькие ручки сестренки, розовые пальчики, они похожа на молодые грибки, которые выбились из-под мха, увидел ее круглое личико рядом с большой материнской грудью в сетке синих прожилок. На матери — толстая рубаха, твердая как жесть, окрашенная барвинковым цветом, теперь все ходят в фиолетовом: на отце фиолетовые брюки, на детях тоже, фиолетовой кажется и материнская грудь, которую сестренка ловит обеими руками, отыскивая сосок.
Мы не замечали красоты материнской груди, она была только грудью, к которой мы все четверо тянулись как к источнику питания. А потом, насытившись, откатывались прочь, как спелые яблоки. Двое старших из нас вот уже двадцать пять лет как ушли на войну и не вернулись.
Кажется, официант из «Отдыха», подумал Василий Петрович, увидев приближающуюся фигуру. Хороший человек. Это действительно он.
— Здравствуйте, Василий Петрович. Почему давно не заходили? У нас сейчас очень хорошо, я часто посматриваю на тот столик, в уголочке под черемухой, где вы сиживали. Кстати, знаете, я ее вчера встретил, с мужем куда-то шла. Она очень красивая, можете мне поверить, я человек твердых принципов и никогда не кривлю душой.
— Как-нибудь загляну.
— Непременно приходите, с нею. Я для вас устрою — не пожалеете. Тридцать два года работаю официантом. Кому только не устраивал! Ну, об этом не говорят.
— Где вы ее видели?
— На улице встретил. Она меня узнала, улыбнулась. Вам просто повезло… такая женщина… конфетка. Я сегодня же вас жду.
— Спасибо.
— Я тогда любовался вами целый вечер, она была в розовой кофте, или не так?.. А муж ее ничего не говорит? Он, знаете, очень неприветливый, и, в конце концов, кто? Техник, а вы пишете, я даже что-то недавно ваше читал. Правда, я всего не понял. А знаете, у меня отец заболел, и это так неожиданно, старик никогда ничем не хворал.
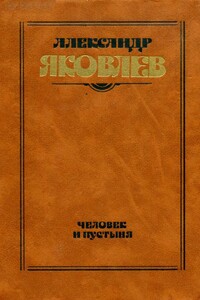
В книгу Александра Яковлева (1886—1953), одного из зачинателей советской литературы, вошли роман «Человек и пустыня», в котором прослеживается судьба трех поколений купцов Андроновых — вплоть до революционных событий 1917 года, и рассказы о Великой Октябрьской социалистической революции и первых годах Советской власти.
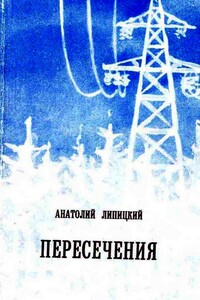
В своей второй книге автор, энергетик по профессии, много лет живущий на Севере, рассказывает о нелегких буднях электрической службы, о героическом труде северян.
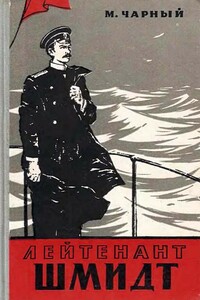
Историческая повесть М. Чарного о герое Севастопольского восстания лейтенанте Шмидте — одно из первых художественных произведений об этом замечательном человеке. Книга посвящена Севастопольскому восстанию в ноябре 1905 г. и судебной расправе со Шмидтом и очаковцами. В книге широко использован документальный материал исторических архивов, воспоминаний родственников и соратников Петра Петровича Шмидта.Автор создал образ глубоко преданного народу человека, который не только жизнью своей, но и смертью послужил великому делу революции.

Роман «Доктор Сергеев» рассказывает о молодом хирурге Константине Сергееве, и о нелегкой работе медиков в медсанбатах и госпиталях во время войны.
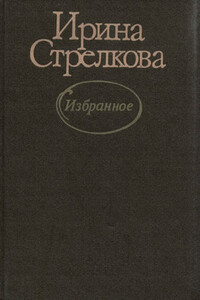
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Из предисловия:Владимир Тендряков — автор книг, широко известных советским читателям: «Падение Ивана Чупрова», «Среди лесов», «Ненастье», «Не ко двору», «Ухабы», «Тугой узел», «Чудотворная», «Тройка, семерка, туз», «Суд» и др.…Вошедшие в сборник рассказы Вл. Тендрякова «Костры на снегу» посвящены фронтовым будням.