Житие тщеславного индивида - [4]
Случилось это днем, когда мать со старшим братом ушли в город – Витька в школу, она в магазин, а мы с младшим Валеркой сидели дома. Взрывом здорово тряхнуло нас, вылетели все оконные рамы, одна из которых накрыла трехлетнего братишку, и помню, как он протяжно завыл: «Ой, мамка, домбят!» Я выволок его из груды стекол и штукатурки, кое во что одел и мы убежали в бомбоубежище, оборудованное в одном из многочисленных крытых окопов, сооруженных в сохранившейся березовой рощице между «горушкой» и «Леонтьевским домом». Вместе с «горушкинскими» и еще каким-то людом мы сидели там в темноте и по колено в холодной воде до тех пор, пока в проеме окопа ни вспыхнул яркий солнечный свет и появившаяся в его мареве женская фигура ни спросила: «Моих тут нет?» Это была наша «мамка», с ревом обыскавшая уже и развалины обоих домов, и все другие окопы. Валерку она подхватила на руки, а я пошел самостоятельно и не домой, а осмотреть разрушенную часть нашего дома, где уже копались хозяева в поисках уцелевшего скарба. И помню, как остолбенел от страха, увидев среди мусора чью-то сине-белую оторванную кисть руки.
Следы бомбежек долго оставались и в памяти, и в материальном воплощении. В квартире наших соседей, занимавших две комнаты, в дощатой перегородке между ними и после войны можно было видеть рваную дыру от залетевшего в дом осколка бомбы. А у моих сверстников годами хранились коллекции осколков, которые во время налетов мы подбирали еще горячими.
Случались над Полушкиной рощей и воздушные бои, на которые мы глазели до ломоты в шеях и до рези в глазах. Они были похожи на игры в догонялки и прятки и проходили настолько высоко, что самолеты казались игрушечными. Но мы все-таки различали наши «ястребки» и их «мессеры» и болели, конечно, за наших. Бои начинались так же неожиданно, как и кончались, когда кто-то из его участников вдруг пропадал в облаках, а другой, покрутившись на открытом пространстве, вскоре тоже куда-то улетал. Лишь дважды эти воздушные бои перестали быть для нас забавами, когда однажды у самых ног одного из нас короткой строчкой взвились фонтанчики земли, и мы со страхом осознали, что это следы пулеметной очереди. А второй раз, когда один из самолетов, пустив шлейф дыма, с диким гулом стал падать со своей подоблачной высоты прямо на нас. И этот нарастающий страшный гул намертво приклепал наши ноги к земле. Вжав головы даже не в плечи, а куда-то гораздо ниже, мы так и остались посреди двора, откуда смотрели в небо. Но падающий самолет – это был «мессер» – то ли ветром, то ли судьбой отнесло от нас на другой берег Волги, где он и вспыхнул красно-черным факелом взрыва.
3. Шпана
Это было общее определение для мальчишек из поселков строителей Резинокомбината. Была «Эсковская шпана» из бараков, примыкавших к заводу синтетического каучука, «Березовская шпана» из поселка Березовая роща, очень скоро поглощенная «Шанхайской кодлой», как и сама Роща – Шанхаем – диким самостроем из лачуг, скроенных из чего попало. Но самой известной в Ярославле, во всяком случае, в той части собственно города, что примыкала к железнодорожной насыпи, была «Полушкинская шпана», к которой я имел честь принадлежать и даже быть ее видным представителем.
От прочих сверстников шпану отличало знание жизни не по годам, умение, не гнушаясь способами, добыть себе пропитание, постоять за себя и за кореша. Это главное. Но были еще и незыблемые внешние признаки: косая челка на лбу, сдвинутый до бровей шестиклинный «кепарик», брюки, заправленные по низу в носки, фикса во рту и наколка на кистях рук. И, конечно же, хотя бы кое-какое умение «ботать по фене». Все, кто не подходил под такой стандарт, должны были быть презираемы и биты.
«Держать фасон» для меня не составляло труда с самого раннего детства. Читать и писать каким-то непостижимым способом я научился совершенно самостоятельно и еще до того, как в школу пошел старший брат, и в доме впервые появились Азбука и Букварь. А Витька был старше меня на три года. Значит, к пяти годам я уже умел складывать буквы в слова и царапать их на всем, что попадало под руку – на обрывках бумаги, на крышке стола, на стене. Однажды под руку попала собственная правая рука и, слюнявя химический карандаш, я вывел на тыльной стороне предплечья собственное имя «Вова». А спустя какое-то время, постигнув у шпаны постарше технику татуировки, обколол это слово иголкой с тушью. В каком возрасте это случилось, вспомнить трудно, но точно, что до школы, поскольку в первом классе, стоило только поднять руку, меня уже невозможно было с кем-то спутать. Легко получалась и «фикса» на верхний клык, потому что на огромной свалке между Полушкиной рощей и Шанхаем всегда можно было найти кусок серебристой фольги, которой оборачивался нужный зуб. А чтобы фольга не сползала от слюны, ее нужно было держать открытой, приподнимая краешек губы и дышать, втягивая воздух сквозь зубы. Правда, держать такой «фасон» нужно было только в случаях, когда приходилось особо подчеркнуть свою принадлежность к шпане, поэтому фольгу мы просто имели про запас и при случае быстренько мастрячили «фиксу».
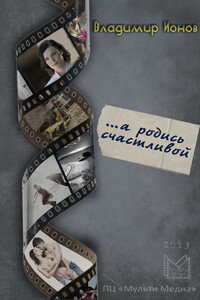
«…А родись счастливой» — это роман о трудной судьбе молодой, удивительно красивой женщины, пытающейся найти своё место в жизни, которая подбрасывает ей одно испытание за другим: трагическая смерть мужа, многочисленные попытки других мужчин (вплоть до пасынка) воспользоваться её тяжёлым положением — через всё это она проходит с большими нравственными сомнениями, но не потеряв цельности души.
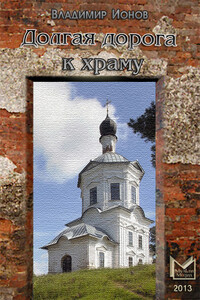
Формально «Долгую дорогу к храму» можно обозначить как сборник рассказов. Но это будет не точно. Потому что автор не просто делится с нами любопытными историями и случаями из жизни. Это размышления опытного человека. Но размышления не резонера, а личности, которая пытается осмыслить жизнь, найти самого себя, и в реальности, и в мечтах, и даже — во снах. Эта книга для тех, кто ищет умного, доброго и понимающего собеседника, для тех, кому действительно нужна дорога к храму, какой бы долгой она ни была.
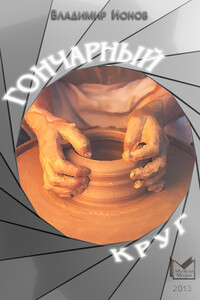
В деревню, где живёт гончарных дел мастер приезжает киносъёмочная группа, чтобы запечатлеть для крупной зарубежной выставки процесс рождения его замечательных и удивительно простых изделий крестьянского быта. Но мастер уже далеко не молод. И то ли вмешательство таких гостей, то ли руки-то уже «не те», не получается у него показать превращения куска глины в произведение искусства. Оказывается, талант надо вовремя замечать и воздавать ему должное. И лишь благодаря большому терпению режиссёра и находчивости деревенского балагура — приятеля мастера — ему удаётся сотворить свой очередной шедевр.
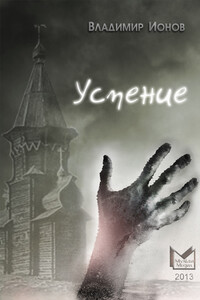
Бывший монастырский сирота Пашка Опёнков через годы тайно пострижён в монахи и отправлен иеромонахом в дальний сельский приход, где он долгие годы служит Церкви и людям. Сохранив детскую чистоту души, живя в единении с природой, отец Павел встречается с изверившимся дьяконом Валасием и цинизмом других высокопоставленных чинов своей епархии. И в его душе возникает вопрос: правильно ли он посвятил себя Богу, обрубив монашеством возможность продолжения рода — ведь только в памяти потомков и людей, которым делал добро, сохраняется вечность Души.
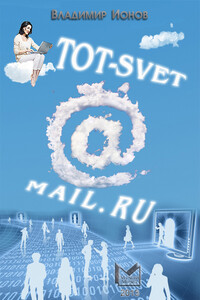
Если человек чутко прислушивался к голосу Совести и жил в ладу с нею, то уходя в Мир Иной, его бессмертная Душа получает Адрес, с помощью которого может общаться с теми, кого он покинул, помогать им советами. Душа, обладающая Адресом, легко угадывает помыслы живущих на Земле и заставляет их меняться, оставляя нестиремые записи на персональных компьютерах и зеркалах.

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.