Житие тщеславного индивида - [3]
2. Полушкина роща
Её нет уже много лет, хотя название в качестве почтового адреса. Наверно, ещё осталось, потому что, проезжая как-то по тем местам, я видел один или два обитаемых дома. Все остальное пространство накрыто заводскими корпусами, появившимися здесь в семидесятые годы прошлого века, когда я уже уехал из Ярославля, и достаточно широкой автомагистралью, за строительство которой я когда-то сражался с ветряными мельницами государства.
Сохранилось это название и в истории славного русского города, хотя бы потому, что почти три века назад пасынок купца Полушкина Федор Волков открыл здесь в каретном сарае отчима первый театр «охотников», призванный вскоре в Санкт-Петербург и ставший там первым профессиональным театром всея Великия и Малыя и Белыя России. Место это нигде и ни кем не отмечено, и точка рождения очага общенациональной культуры теперь сгинула с лика города, как сгинула и вся Полушкина роща – некогда одно из красивейших мест Ярославля. Поглощать березово-липовую рощу социалистическая индустриализация начала с конца двадцатых годов прошлого столетия, когда в Нижнем Новгороде началось строительство автозавода, а в Ярославле – сопутствующих ему предприятий – шинного и асбестового заводов, кордной фабрики, завода синтетического каучука. Их начали размещать за насыпью железной дороги, ведущей на север страны и отделявшей собственно город от его зеленой зоны. А до начала строительства это было дачное место дореволюционной городской знати и первых домов отдыха для совпартработников и членов профсоюза.
К тому времени, когда в 1928 году здесь поселилась семья моего отца – 23-летнего плотника Бориса Ионова, в Полушкиной роще уже не осталось ни господских дач, ни домов отдыха. Одноэтажные господские строения превратили в квартиры, куда растолкали по три-четыре семьи совспецов и совслужащих, а двухэтажные деревянные корпуса стали коммуналками для рабочего люда. В коммуналки обратили и два советских новодела, сотворенных в стиле южных особняков – с балконами на колоннах по второму этажу, с бетонными вазонами и неким подобием фонтанов на террасах первого. Это были государственные дачи первых лиц города. Еще недавно, по южному белоснежные, потеряв былых хозяев, они посерели и теперь торчали на некрутом зеленом берегу Волги как два кариесных зуба. И вот что интересно, три этих особых дома – Леонтьевский и два серых – жили какой-то необъяснимо отдельной жизнью. В них тоже было немало моих сверстников, но я не могу припомнить ни одного, кто бы входил в ватаги «Полушкинской шпаны», как именовали нас в других частях города. Ребята из барака, что стоял между Леонтьевским и теми двумя домами, всегда бывали с нами, а этих словно и не существовало на свете. Видимо их обитателям передавалась некая аура прошлых хозяев, отделявшихся от остальной части населения постами охраны.
Но и остальная часть Полушкиной рощи делилась на две примерно равные по населению половины – прибрежную, что плоской равниной подходила к невысокому берегу Волги, и «горушку», что такой же плоской террасой лежала за «Леонтьевской горкой». И вот что любопытно. Если в прибрежной части, на торце нашего двухэтажного щитового дома по вечерам и в выходные больше собирались взрослые парни и молодые мужики, а «мелочи» вроде меня почти не было видно, то на «горушке» наоборот – взрослые где-то были при деле, а многочисленная «мелочь» сбивалась вместе в драчливую ватагу или для игр в «чижика», «лапту», «жостку», гонять в футбол тем, что попадет под ноги – тряпочным или резиновым мячом, чьей-нибудь шапкой или какой-нибудь жестянкой.
Мне было интересно там и тут. От взрослых постигал правила карточных игр и доминошных партий, внимал, если не шугали подальше, рассказам об отношениях с «бабами», заучивал матерные рулады и анекдоты. А со сверстниками важно было помериться ловкостью, силой, скоростью ног и поделиться тем, что узнавал из взрослой жизни. Хотя в этом-то для большинства пацанов и не было особых секретов, потому что семьи – сколько бы в них ни было человек – имели в основном по одной комнате, и все тайное там ни для кого не являлось тайной. И если кто-то вдруг начинал: «Ух, чего я ночью видал!..», то другой тут же спрашивал: «Как мужик бабу зажал?» И разговор переходил на другие, сугубо мальчишечьи темы.
Впрочем, особых тем довоенных разговоров практически не помню. А в войну они крутились вокруг бомбежек, которых на долю Полушкиной рощи досталось больше, чем всему остальному Ярославлю. Потому что наш зеленый еще островок с одной стороны примыкал к территории Резинокомбината, обувавшего шинами фронтовые полуторки и трехтонки, а вместе с ними и всю артиллерию, а с другой – к железнодорожному мосту через Волгу, который связывал фронт с Уралом и Сибирью. И легко представить, какое значение гитлеровское командование придавало бомбардировкам моста и заводов Резинокомбината. А поскольку до 1943 года Ярославль был не в таком уж глубоком тылу, вражьи самолеты не раз и не два прорывались к нам. Но серьезное разрушение мы испытали только однажды, когда бомба угодила между двумя двухэтажными домами и снесла по подъезду в каждом. У моего дома оторвало третий подъезд (мы жили в первом), у соседнего, срубленного из хорошего леса, развалило половину первого. Нижний этаж почти не пострадал, а на втором бревна свернуло в сторону от взрыва, куда и снесло все, что было в квартирах.
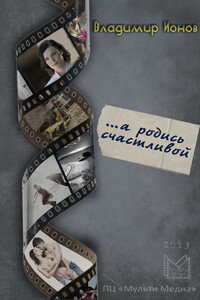
«…А родись счастливой» — это роман о трудной судьбе молодой, удивительно красивой женщины, пытающейся найти своё место в жизни, которая подбрасывает ей одно испытание за другим: трагическая смерть мужа, многочисленные попытки других мужчин (вплоть до пасынка) воспользоваться её тяжёлым положением — через всё это она проходит с большими нравственными сомнениями, но не потеряв цельности души.
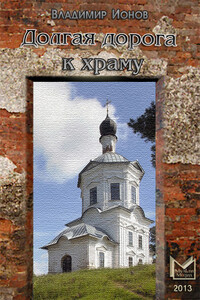
Формально «Долгую дорогу к храму» можно обозначить как сборник рассказов. Но это будет не точно. Потому что автор не просто делится с нами любопытными историями и случаями из жизни. Это размышления опытного человека. Но размышления не резонера, а личности, которая пытается осмыслить жизнь, найти самого себя, и в реальности, и в мечтах, и даже — во снах. Эта книга для тех, кто ищет умного, доброго и понимающего собеседника, для тех, кому действительно нужна дорога к храму, какой бы долгой она ни была.
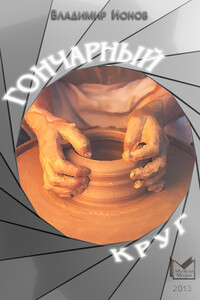
В деревню, где живёт гончарных дел мастер приезжает киносъёмочная группа, чтобы запечатлеть для крупной зарубежной выставки процесс рождения его замечательных и удивительно простых изделий крестьянского быта. Но мастер уже далеко не молод. И то ли вмешательство таких гостей, то ли руки-то уже «не те», не получается у него показать превращения куска глины в произведение искусства. Оказывается, талант надо вовремя замечать и воздавать ему должное. И лишь благодаря большому терпению режиссёра и находчивости деревенского балагура — приятеля мастера — ему удаётся сотворить свой очередной шедевр.
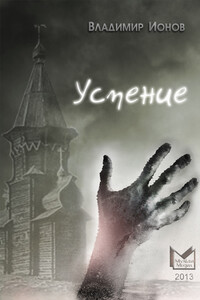
Бывший монастырский сирота Пашка Опёнков через годы тайно пострижён в монахи и отправлен иеромонахом в дальний сельский приход, где он долгие годы служит Церкви и людям. Сохранив детскую чистоту души, живя в единении с природой, отец Павел встречается с изверившимся дьяконом Валасием и цинизмом других высокопоставленных чинов своей епархии. И в его душе возникает вопрос: правильно ли он посвятил себя Богу, обрубив монашеством возможность продолжения рода — ведь только в памяти потомков и людей, которым делал добро, сохраняется вечность Души.
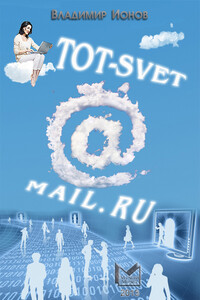
Если человек чутко прислушивался к голосу Совести и жил в ладу с нею, то уходя в Мир Иной, его бессмертная Душа получает Адрес, с помощью которого может общаться с теми, кого он покинул, помогать им советами. Душа, обладающая Адресом, легко угадывает помыслы живущих на Земле и заставляет их меняться, оставляя нестиремые записи на персональных компьютерах и зеркалах.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.

На всех фотографиях он выглядит всегда одинаково: гладко причесанный, в пенсне, с небольшой щеткой усиков и застывшей в уголках тонких губ презрительной улыбкой – похожий скорее на школьного учителя, нежели на палача. На протяжении всей своей жизни он демонстрировал поразительную изворотливость и дипломатическое коварство, которые позволяли делать ему карьеру. Его возвышение в Третьем рейхе не было стечением случайных обстоятельств. Гиммлер осознанно стремился стать «великим инквизитором». В данной книге речь пойдет отнюдь не о том, какие преступления совершил Гиммлер.

В этой книге нет вымысла. Все в ней основано на подлинных фактах и событиях. Рассказывая о своей жизни и своем окружении, я, естественно, описывала все так, как оно мне запомнилось и запечатлелось в моем сознании, не стремясь рассказать обо всем – это было бы невозможно, да и ненужно. Что касается объективных условий существования, отразившихся в этой книге, то каждый читатель сможет, наверно, мысленно дополнить мое скупое повествование своим собственным жизненным опытом и знанием исторических фактов.Второе издание.

Очерк этот писался в 1970-е годы, когда было еще очень мало материалов о жизни и творчестве матери Марии. В моем распоряжении было два сборника ее стихов, подаренные мне А. В. Ведерниковым (Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк. – Париж, 1947; Мать Мария. Стихи. – Париж, 1949). Журналы «Путь» и «Новый град» доставал о. Александр Мень.Я старалась проследить путь м. Марии через ее стихи и статьи. Много цитировала, может быть, сверх меры, потому что хотела дать читателю услышать как можно более живой голос м.

«История» Г. А. Калиняка – настоящая энциклопедия жизни простого советского человека. Записки рабочего ленинградского завода «Электросила» охватывают почти все время существования СССР: от Гражданской войны до горбачевской перестройки.Судьба Георгия Александровича Калиняка сложилась очень непросто: с юности она бросала его из конца в конец взбаламученной революцией державы; он голодал, бродяжничал, работал на нэпмана, пока, наконец, не занял достойное место в рядах рабочего класса завода, которому оставался верен всю жизнь.В рядах сначала 3-й дивизии народного ополчения, а затем 63-й гвардейской стрелковой дивизии он прошел войну почти с самого первого и до последнего ее дня: пережил блокаду, сражался на Невском пятачке, был четырежды ранен.Мемуары Г.