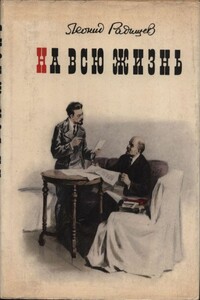Жернова. 1918-1953. Вторжение - [26]
Он представил себе, что из штаба в Каунасе звонят в отряд: «К вам прибыл подполковник Дудник?» — «Никак нет». — «Черти его где-то носят…»
Но, скорее всего, им не до Дудника. Ни им, ни кому-то еще. Даже Цветане.
И Артемий вспомнил жену, их последнюю размолвку.
Цветана сидела на постели в длинной холщовой рубахе, все такая же стройная и красивая, такая же желанная, как и в первую их ночь, но совершенно недоступная для него. Комкая платочек, она говорила громким шепотом, чтобы не разбудить спящую дочь:
— Ты убил во мне веру в людей, Тёма, — говорила она, и в голосе ее слышались горечь и удивление, будто она только сейчас догадалась, почему жизнь ее пошла не так, как ей мечталось. — Ты убил во мне всякие идеалы, уверенность в себе. Я только и делаю, что сомневаюсь, сомневаюсь и сомневаюсь. Раньше я не боялась говорить то, что думаю. Сегодня я не знаю, что мне думать, и я боюсь говорить об этом даже с подругами. Впрочем, и подруг у меня нет. Я стала подозрительной, в каждом человеке мне чудится доносчик. Раньше я не делила людей на евреев, литовцев, немцев и всех остальных, теперь я не могу без брезгливости смотреть на человека, зная, что он еврей, эстонец или немец — неважно кто, — хотя этот человек, может быть, ни в чем не виноват ни передо мною, ни перед остальными людьми… Но ведь так жить нельзя, Тёма! Это ужасно! Я перестала смеяться, — горестно шептала Цветана. — Люди вокруг смеются, они во что-то верят. А я не могу… Что ты со мной сделал, Тёма? Что ты сделал? — воскликнула она, заламывая руки.
Артемий сидел за столом, пил чай с бутербродами. Он механически откусывал от черного хлеба и лежащей на нем дольки ветчины, механически жевал, потом отпивал глоток из стакана. Молча смотрел перед собой, но краем глаза видел Цветану и чувствовал, как в душе его разрастается что-то черное и удушливое.
Зачем он рассказал ей о себе, о своей работе, рассказал со всеми подробностями, ужас которых открывался перед ним в его же рассказе, ужас, который не посещал его в действительности? Он знал, зачем: ему хотелось очиститься, ему хотелось сочувствия и участия. А еще — он не соображал, что делал. Он говорил и говорил, говорил до тех пор, пока его не начал бить припадок.
По-видимому, тогда Цветана ничего не поняла из его рассказа. Может быть, не поверила, не осознала, о чем он ей исповедался. Осознание пришло значительно позже, хотя Артемий больше не повторял своей исповеди, вел себя так, словно ничего ей такого и не говорил. Но сомнения в душу он ей заронил, и оно разрослось чертополохом, заслонив перед нею все остальное, разъедая душу и отравляя сознание. Теперь Артемий жалел, что ничего не сделал, чтобы сгладить первое впечатление от своей исповеди, даже не подумал об этом, хотя подумать было нужно.
«Правда — страшная штука, — думал Артемий, слыша и не слыша жалобы Цветаны, — а люди — ничтожные трусы и эгоисты. Им легче жить, когда они не знают всей правды, они довольны, что кто-то делает необходимое для жизни общества грязное дело, не посвящая их в свою работу. А когда узнают о ней, проклинают таких людей, презирают их и сторонятся. Вот и Цветана — она не выдержала столкновения с действительностью, которая не приоткрылась ей после ареста отца и даже ее самое. Она посчитала это случайностью, недоразумением, и только вдумываясь в открывшуюся ей правду, уяснила себе не только внешние черты этой действительности, но и тщательно от нее скрываемое содержание. И надломилась. А с нею надломилось и ее отношение ко мне» — подвел итог своим рассуждениям Дудник.
Ему пора было на службу, а он думал о том, как ему переломить настроение Цветаны, чтобы сегодняшнюю ночь не пришлось опять спать на раскладушке. Он любил ее, любил до спазмов в желудке, до удушья. А она уходила, уходила, уходила… И вместе с нею из его жизни уходило что-то важное, что еще держало его на поверхности.
Он давно потерял всякие ориентиры. Жил по инерции. Не верил ни в бога, ни в черта, ни в Ленина, ни в Сталина. Когда Артемий обнаружил в себе это неверие, он тоже испугался, но испуг прошел довольно быстро, зато в душе не осталось ничего: ни страха, ни надежд. Одна только безумная любовь к этой женщине, красивой и даже весьма неглупой, но тоже с каким-то изъяном, или, лучше сказать, с чисто женским восприятием мира. Даже рождение дочери ничего не изменило в их отношениях. Наоборот, Цветана уходила не просто от него, она уходила к дочери, загораживаясь ею и, по-видимому, оправдываясь. Иначе откуда бы в ней такое упорство и такая непонятная целеустремленность, точно где-то вдали, где не было Дудника, ее ждали одни только радости?
Дудник вздохнул и лег на спину, подложив руки под голову. Пахло старым сеном, мышами, плесенью. В углу, за каменкой, турлыкал сверчок. Низко, над самой избушкой, прошли самолеты, от их рева с потолка посыпалась какая-то труха.
Дудник вспомнил, что давно ничего не ел, и удивился, что не чувствует голода. Да и лень было вставать и возиться с едой. Что-то недодуманное, недочувствованное бродило в нем, пытаясь облечься в словесную форму. Думать мешал гул самолетов, а еще это странное ощущение, что он, подполковник Дудник, никому ничего не должен, никому ничем не обязан. Тем более что свою войну он уже выиграл: четверых уложил, одного потерял — весьма неплохое соотношение. Если бы и все так, война закончилась бы через пару месяцев. Но так, увы, не бывает. А если судить по непрекращающемуся гулу самолетов, все как раз наоборот.

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».
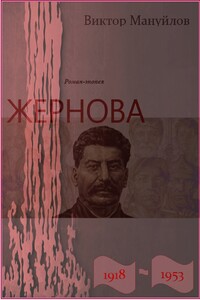
«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.
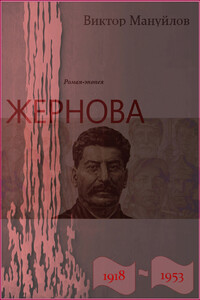
"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».
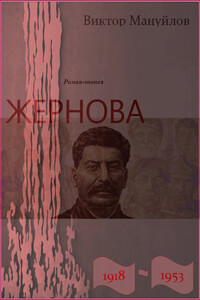
«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.

Роман Дмитрия Конаныхина «Деды и прадеды» открывает цикл книг о «крови, поте и слезах», надеждах, тяжёлом труде и счастье простых людей. Федеральная Горьковская литературная премия в номинации «Русская жизнь» за связь поколений и развитие традиций русского эпического романа (2016 г.)
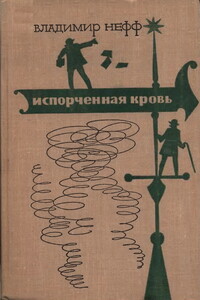
Роман «Испорченная кровь» — третья часть эпопеи Владимира Неффа об исторических судьбах чешской буржуазии. В романе, время действия которого датируется 1880–1890 годами, писатель подводит некоторые итоги пройденного его героями пути. Так, гибнет Недобыл — наиболее яркий представитель некогда могущественной чешской буржуазии. Переживает агонию и когда-то процветавшая фирма коммерсанта Борна. Кончает самоубийством старший сын этого видного «патриота» — Миша, ставший полицейским доносчиком и шпионом; в семье Борна, так же как и в семье Недобыла, ощутимо дает себя знать распад, вырождение.

Роман «Апельсин потерянного солнца» известного прозаика и профессионального журналиста Ашота Бегларяна не только о Великой Отечественной войне, в которой участвовал и, увы, пропал без вести дед автора по отцовской линии Сантур Джалалович Бегларян. Сам автор пережил три войны, развязанные в конце 20-го и начале 21-го веков против его родины — Нагорного Карабаха, борющегося за своё достойное место под солнцем. Ашот Бегларян с глубокой философичностью и тонким психологизмом размышляет над проблемами войны и мира в планетарном масштабе и, в частности, в неспокойном закавказском регионе.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

В 1977 году вышел в свет роман Льва Дугина «Лицей», в котором писатель воссоздал образ А. С. Пушкина в последний год его лицейской жизни. Роман «Северная столица» служит непосредственным продолжением «Лицея». Действие новой книги происходит в 1817 – 1820 годах, вплоть до южной ссылки поэта. Пушкин предстает перед нами в окружении многочисленных друзей, в круговороте общественной жизни России начала 20-х годов XIX века, в преддверии движения декабристов.
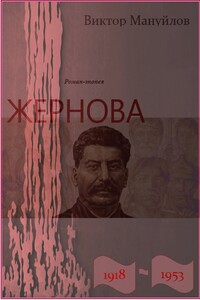
«По понтонному мосту через небольшую речку Вопь переправлялась кавалерийская дивизия. Эскадроны на рысях с дробным топотом проносились с левого берега на правый, сворачивали в сторону и пропадали среди деревьев. Вслед за всадниками запряженные цугом лошади, храпя и роняя пену, вскачь тащили пушки. Ездовые нахлестывали лошадей, орали, а сверху, срываясь в пике, заходила, вытянувшись в нитку, стая „юнкерсов“. С левого берега по ним из зарослей ивняка били всего две 37-миллиметровые зенитки. Дергались тонкие стволы, выплевывая язычки пламени и белый дым.
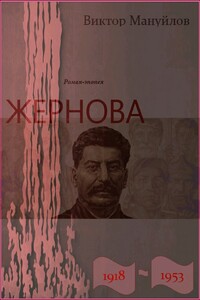
«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».
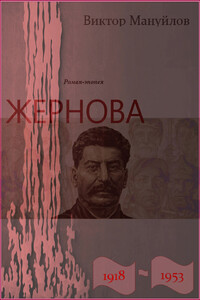
"Снаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость. И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…