Жернова. 1918–1953. После урагана - [8]
— Данке шоон.
— О! Хороши малтшик! — снова радостно воскликнул немец. — Затем он пошарил у себя в карманах и протянул мне конфетку в бумажной обертке. — Биттэ, кушать, пожалюста.
— Данке, — снова сказал я на чистом немецком языке, чтобы доставить немцу еще большую приятность.
— Битте, битте, — дважды повторил немец и вздохнул.
Я подумал, что он, пожалуй, очень сильно удивлен тем, что я так хорошо знаю немецкий язык, и надо бы ему пояснить, откуда я его знаю, но тут открылось окно, и мамин голос позвал меня домой.
Я вежливо попрощался с немцем:
— Ауфвидерзеен, — и даже слегка кивнул головой.
— Ауфвидерзеен, — сказал мне немец. — Гуд нахт, гуд нахт! Спокойны ночь!
Он мог бы и не переводить: я и эти слова тоже знал. И тоже от немцев же, которые иногда появлялись у нас по приглашению мамы: они пилили дрова в нашем сарае, убирали за поросенком и гусями, делали еще какие-то дела, за что мама кормила их любимой немецкой едой — жареной картошкой на свином сале. И поила настоящим чаем. А иногда и настоящим кофием, а не каким-нибудь ячменно-желудевым. И немцы были очень счастливы таким с ними человеческим обхождением.
Немцы эти молоды, и не военные они, а интернированные, то есть такие, которых поймали на улице в немецком городе и привезли к нам работать. Живут эти немцы в двух домах, среди них много молодых немок, которые тоже говорят на чистом немецком языке, а многие из них ходят с большим пузом. Это для того, чтобы скорее уехать в свою Германию. Как будто там лучше, чем у нас, в СССР. Если бы у них было лучше, они бы не пошли на нас войной, потому что им стало завидно. Это и дураку ясно.
Мама встретила меня молча, глаза ее были заплаканы, и я догадался, что папа опять ушел по делам в своем кожаном пальто и в бостоновом костюме.
— Опять стрелял? — сказала мама с неудовольствием.
— Я из пугача, — успокоил ее я. — Это совсем не опасно. Так просто: бах — и все!
— Знаю я эти твои так просто, — вздохнула мама. И спросила: — Есть хочешь?
Есть я не хотел.
Лежа в постели, я думал о будущем — о том, что вот я придумал что-то необыкновенное, меня все хвалят, награждают медалью или даже орденом, папа теперь никуда не уходит по делам, он все время улыбается и говорит, что он всю жизнь мечтал, чтобы его сын что-нибудь придумал такое, и вот он, то есть я, придумал, и теперь он, то есть папа, рад и счастлив, что у него такой умный сын. И мама тоже рада и счастлива и больше не ругается с папой.
Но проходит день, еще день — и папа снова собирается по своим делам, чистит свое кожаное пальто, одевает свой коверкотовый костюм и, произнеся обычное: «Ужинать не жди, вернусь не скоро», скрывается за дверью.
Мама смотрит ему вслед, безвольно опустив руки, и, горестно вздохнув, возвращается на кухню.
А я, подождав немного, тоже выскальзываю за дверь, тихонько ее прикрываю и несусь вниз, перепрыгивая через две ступеньки. Выскакиваю на улицу и чуть не столкнулся с одной из старух, толстой и неповоротливой.
— И куды тебя несет, паршивец этакий? — вскрикивает старуха, выставив свою клюку и чуть ни ткнув меня ею в живот. Она такая широкая, что загородила всю дорогу — не проехать, не пройти. И, главное — орет, будто ее режут: — Какой батька, таким и сын растет! — орет она, чтобы ее слышали во всем нашем доме. И прохожие тоже. — Мать небось вся извелась от таких мужиков! — продолжает она. — Старший все по бабам шастает, а сыну лишь бомбы какие ни есть взрывать да себя калечить!
Я изловчился, поднырнул под клюку и со всех ног помчался к развалинам школы, где меня ждут мои товарищи.
Уже лежа в постели и слыша, как в своей комнате горестно вздыхает мама, я вспомнил главное, о чем кричала старуха: «по бабам шастает». И мне стало так нехорошо, что я сел, не зная, что в таких случаях надо делать. Ведь папа может пошастать-пошастать, да и уйдет от нас насовсем. Как ушел дядя Сережа с первого этажа, бросив своих детей: шестилетнего Костю и четырехлетнюю Нину, и, как говорят бабки, сделал их сиротами при живом отце.
Я представил, как все это случится с нами, и заплакал.
Глава 4
— Слышь, Гаврилыч, — говорил Василию Мануйлову Петро Дущенко, разливая по стопкам горилку. — Ты, это… Тут одному очень нужному нам человеку очень нужен кирпич и все остальное прочее. Так ты там сообрази по этой части, чтобы неучтенка, а я уж для тебя постараюсь.
Василий Гаврилович выпил горилку, стал зажевывать ее черной икрой, таская икру из банки столовой ложкой и хмуро разглядывая своего шурина, еще больше раздобревшего.
«И черт меня связал с тобой, — уныло думал Василий Гаврилович. — Добром это не кончится, и что тогда станет с семьей? Тоже загонят в какую-нибудь дыру, и сгинет она там, и сам я сгину, и ничего не останется. А главное — не пошлешь ко всем чертям, потому что те, кто еще не получил от меня этот проклятый кирпич и эти проклятые балки-доски для своих дач, тут же на меня настрочат донос, и тогда будет еще хуже. Уехать, что ли? Так ведь и уехать тоже не дадут. Получается, что всем я должен: и за квартиру, и за тряпки, и за американские подарки, и за все, за все. И только мне никто ничего не должен».

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».
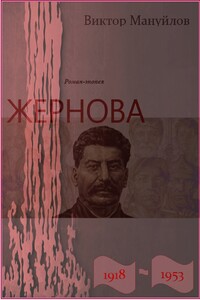
«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.
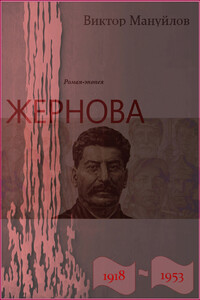
"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.
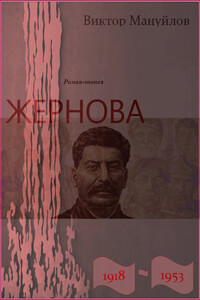
«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.

Конец XIX века, научно-технический прогресс набирает темпы, вовсю идут дебаты по медицинским вопросам. Эмансипированная вдова Кора Сиборн после смерти мужа решает покинуть Лондон и перебраться в уютную деревушку в графстве Эссекс, где местным викарием служит Уилл Рэнсом. Уже который день деревня взбудоражена слухами о мифическом змее, что объявился в окрестных болотах и питается человеческой плотью. Кора, увлеченная натуралистка и энтузиастка научного знания, не верит ни в каких сказочных драконов и решает отыскать причину странных россказней.

Когда-то своим актерским талантом и красотой Вивьен покорила Голливуд. В лице очаровательного Джио Моретти она обрела любовь, после чего пара переехала в старинное родовое поместье. Сказка, о которой мечтает каждая женщина, стала явью. Но те дни канули в прошлое, блеск славы потускнел, а пламя любви угасло… Страшное событие, произошедшее в замке, разрушило счастье Вивьен. Теперь она живет в одиночестве в старинном особняке Барбароссы, храня его секреты. Но в жизни героини появляется молодая горничная Люси.

Генезис «интеллигентской» русофобии Б. Садовской попытался раскрыть в обращенной к эпохе императора Николая I повести «Кровавая звезда», масштабной по содержанию и поставленным вопросам. Повесть эту можно воспринимать в качестве своеобразного пролога к «Шестому часу»; впрочем, она, может быть, и написана как раз с этой целью. Кровавая звезда здесь — «темно-красный пятиугольник» (который после 1917 года большевики сделают своей государственной эмблемой), символ масонских кругов, по сути своей — такова концепция автора — антирусских, антиправославных, антимонархических. В «Кровавой звезде» рассказывается, как идеологам русофобии (иностранцам! — такой акцент важен для автора) удалось вовлечь в свои сети цесаревича Александра, будущего императора-освободителя Александра II.

Андрей Ефимович Зарин (1862–1929) известен российскому читателю своими историческими произведениями. В сборник включены два романа писателя: «Северный богатырь» — о событиях, происходивших в 1702 г. во время русско-шведской войны, и «Живой мертвец» — посвященный времени царствования императора Павла I. Они воссоздают жизнь России XVIII века.
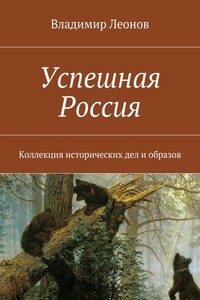
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.
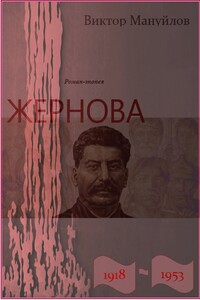
«По понтонному мосту через небольшую речку Вопь переправлялась кавалерийская дивизия. Эскадроны на рысях с дробным топотом проносились с левого берега на правый, сворачивали в сторону и пропадали среди деревьев. Вслед за всадниками запряженные цугом лошади, храпя и роняя пену, вскачь тащили пушки. Ездовые нахлестывали лошадей, орали, а сверху, срываясь в пике, заходила, вытянувшись в нитку, стая „юнкерсов“. С левого берега по ним из зарослей ивняка били всего две 37-миллиметровые зенитки. Дергались тонкие стволы, выплевывая язычки пламени и белый дым.
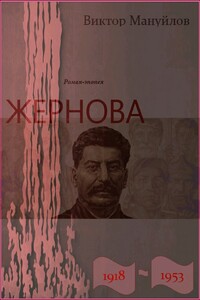
«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».
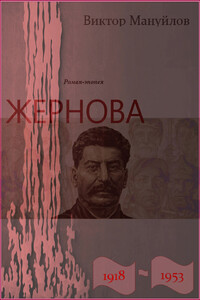
"Снаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость. И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…