Жернова. 1918–1953 - [7]
Но что делать? — Революция! Не рвать же на себе собственные волосы, читая расстрельные списки. Когда-нибудь это кончится. Все когда-нибудь кончается. А жить все равно надо сейчас. И лучше всего — жить хорошо и весело. Но чтобы так жить, сегодня предстоит еще что-то написать для газеты, которая платит хотя и не так много, но аккуратно. Правда, на Гороховой у него, у Бабеля, полно хороших товарищей, просто отличных товарищей, и многие из Одессы, он может там недурно столоваться, иметь все, что надо для жизни (свой костюм, например, он получил там). Но лучше, когда есть свои деньги, которые можно истратить по своему разумению. Сводить, например, в «Пегас», где собираются поэты, Люську с Литейного, едва за пятнадцать, кровь с молоком. И вечно голодную… А как она ест! Боже, как она ест! Будто наедается на целую неделю. Или, как волчица, чтобы, вернувшись домой, срыгнуть своим близким: нате, мол, жрите. Но Люська домой не спешит. Они после «Пегаса» пойдут в номера и займутся любовью. Так это теперь называется. Всю ночь до утра… Несмотря на молодость, Люська знает много способов любви. С ней не соскучишься…
Бабель вздохнул и пустился дальше подпрыгивающей походкой. До вечера еще далеко. Сперва надо отписаться для газеты. А уж потом он сам себе хозяин.
Глава 4
В трактире, расположенном в полуподвальном помещении под вывеской «Пегас», на которой намалеван крылатый конь, скачущий по облакам, шумно, дымно, воняет вчерашними щами, жареным луком и сивухой.
Бабель, придерживая под локоток Люську, одетую в крепдешиновое платье с блестками, раздобытое для нее на складе конфискованных вещей, поманил пальцем полового, и тот отвел их в отдельный кабинет, из которого, впрочем, виден почти весь зал и невысокая эстрада, с пианино и тремя музыкантами, торопливо доедающими что-то из тарелок, повернувшись к залу спинами.
— Музыку! — крикнул кто-то зычным голосом.
Ему вторили жиденькие хлопки.
Появился конферансье в черном цилиндре, с черной бабочкой, в черном трико, в черном же фраке и в… лаптях.
— Господа-товарищи-граждане! Один момент! Музыканты — тожеть люди! Они хочут есть и пить, какать и писять. А пока они загружают пищей свои желудки, а питьем — мочевые пузыри, перед вами выступит оригинальный поэт с оригинальными стихами. Благородные дамы могут заткнуть свои благородные ушки. Хотя, должен предупредить благородных дам: вы пропустите рождение освобожденного от оков буржуазных предрассудков живого русского слова, истинно русской, истинно народной поэзии. Итак! Вандрападал Первый! Он же Кузьма Ошейников! Прошу-ссс!
На сцену вышел небритый человек лет тридцати с хвостиком, с колючим лицом, резаным шрамом от уха к углу рта, с редкими всклокоченными волосами, в свитке, солдатских штанах и ботинках с обмотками. Он зыркнул маленькими злыми глазками по сидящим за столиками и стал выкрикивать резким, рыдающим голосом:
И далее в том же духе.
— Люсиндра! Тебе нравится? — сжимал Бабель атласную коленку своей спутницы, заглядывая в ее широко распахнутые детские глаза.
Люсиндра томно повела обнаженным острым плечиком, произнесла нараспев:
— У нас, в Нахаловке, и не такое закручивают.
— В Нахаловке… Скажешь тоже! Это ж новая поэзия, созвучная революционной эпохе! А у вас там разве уже поэзия? Дерьмо!
— Я есть хочу, а вы мне голову морочите своими стихами, — пожаловалась Люсиндра.
— Эй! Человек! Долго тебя ждать? — крикнул Бабель, высунувшись из кабинета.
— Сей секунд! Сей секунд! — ответствовал человек, лавируя между столиками, держа поднос, уставленный посудой, на кончиках растопыренных пальцев.
— Браво! — заорала публика, хлопая в ладоши поэту.
Вандрападал Первый поддернул спадающие с тощего зада штаны и соскочил в зал.
Оркестр заиграл «Мурку».
Из соседнего кабинета вывалилось трое: две нарумяненные девицы в длинных юбках по самую щиколотку, но с разрезом до бедра с левой стороны, в котором мелькали стройные ножки в шелковых чулках и кружевные панталоны. Девицы поддерживали с двух сторон молодого человека в тройке в светлую полоску. Он был пьян, с трудом держался на ногах, кричал, размахивая руками:
— Все жрете, сволочи! Все пьете? А Россия? Россия пропадай? Вот наступит тридцатое — вздрогните!
— Вали отсюдова, пока сам не вздрогнул, — посоветовал молодому человеку полный господин. — Сам, вишь ты, нажрался-напился, а других укорят…
В молодом человеке Бабель узнал Леонида Каннегисера.
Глава 5
Пассажирский поезд из Финляндии, прибывший на пограничную станцию ранним утром, представлял из себя старенький маломощный паровоз и шесть вагонов, пять из которых обшарпаны до такой степени, точно вагоны пропустили сквозь каменные жернова, лишив их всех стекол. Правда, кое-где окна заделаны ржавым железом, кое-где досками, а кое-где не заделаны ничем. Зато шестой вагон резко отличался от других свежей краской и ухоженностью.
В столице независимой Финляндии Гельсинки (она же Гельсингфорс) на этот поезд село не так уж много пассажиров. И в основном — в шестой вагон.

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».
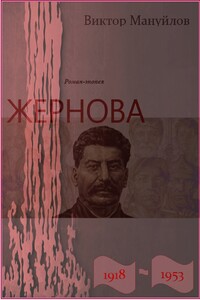
«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.
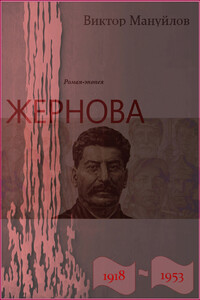
"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.
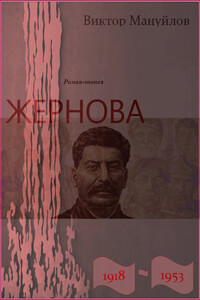
«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.
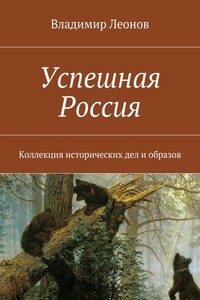
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
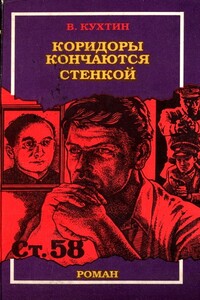
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
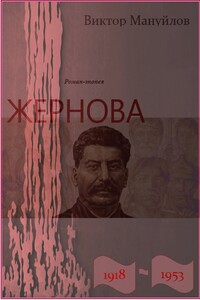
«По понтонному мосту через небольшую речку Вопь переправлялась кавалерийская дивизия. Эскадроны на рысях с дробным топотом проносились с левого берега на правый, сворачивали в сторону и пропадали среди деревьев. Вслед за всадниками запряженные цугом лошади, храпя и роняя пену, вскачь тащили пушки. Ездовые нахлестывали лошадей, орали, а сверху, срываясь в пике, заходила, вытянувшись в нитку, стая „юнкерсов“. С левого берега по ним из зарослей ивняка били всего две 37-миллиметровые зенитки. Дергались тонкие стволы, выплевывая язычки пламени и белый дым.
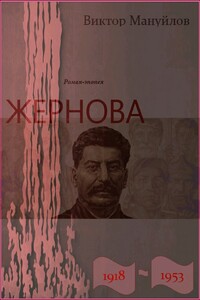
«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».
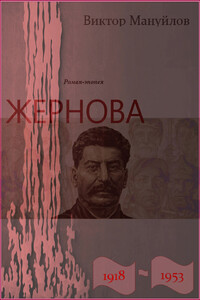
"Снаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость. И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…