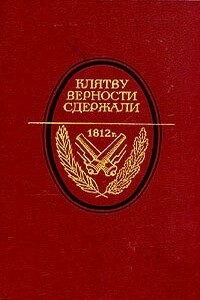Жернова. 1918–1953. Клетка - [45]
Пашка Дедыко вспоминал подробности, изображал, как прыгал и вертелся Каменский, облепленный муравьями, угрюмый Ерофеев похмыкивал в отрастающую рыжевато-русую бородку, Гоглидзе светил своим бельмом и робко смеялся, прикрывая рот ладонью.
Лишь Плошкин не поддавался общему веселью, он будто что-то решал, что-то для него трудное, почти непосильное.
— Не к добру энто веселье, — проворчал он хмуро, и все сразу примолкли и насторожились.
Беглецы уже поднялись, чтобы идти дальше, как где-то далеко-далеко, даже и не поймешь сразу, в какой стороне, прогремел выстрел, и эхо долго носило звук выстрела по ущельям и падям, будто не зная, куда подевать этот чуждый и враждебный природе звук.
Все сразу же с тревогой уставились на бригадира.
— По-моему, это там, — первым нарушил молчание Каменский, но шепотом, и показал куда-то на северо-запад, переводя округлившиеся от страха глаза то на Плошкина, то на вершины притихших сопок.
— Ни, ни тамо, а тамо, — возразил Пашка чуть более громче, показывая в противоположную сторону. — У горах завсегда с другей стороны…
— А может, это не выстрел, а дерево… — высказал предположение Ерофеев.
— Выстрел, — обрубил всякие сомнения Плошкин и, забросив за спину винтовку, приказал: — Пошли, неча прохлаждаться.
Шли до самого вечера почти без остановок. Даже Каменский старался изо всех сил, меньше жаловался, стонал и охал. То ли муравьи помогли, то ли выстрел напугал.
Перед ночевкой, когда уже горел костер и варилась непременная уха, Плошкин взял винтовку и, ничего никому не сказав, пошел назад, по своему следу.
Оставшиеся вдруг почувствовали себя беззащитными, брошенными, сбились в кучу, почти не разговаривали и все вслушивались и вслушивались в тишину опускающейся на тайгу ночи. Люди вздохнули с облегчением лишь тогда, когда бригадир вернулся.
А Плошкин вернулся уже в темноте. Он молча сел у костра, молча выхлебал котелок с ухой, пососал из сотов меда, добытого расторопным Пашкой в дупле старого тополя, молча стал укладываться спать.
Остальные с тревогой следили за ним, не решаясь нарушить тревожную тишину, обступившую их со всех сторон.
Не выдержал Каменский:
— Да, Сидор Силыч… э-э… что я хотел у вас спросить… Вот вы изволили ходить, как я понимаю, в разведку… И что же? Есть там кто-нибудь или… или что?
Плошкин, завязывая под подбородком шапку, буркнул:
— Никого не видал, а только чует мое сердце, что ктой-то идет за нами по следу. На той стороне хребтины, что мы давеча перевалили, ктой-то спугнул оленей. Может, зверь, а может, и человек. — Помолчал, закончил: — Ложитесь спать. Вставать рано.
Положил в голова топор, натянул на голову телогрейку, обнял винтовку, поджал под себя ноги и затих. Через минуту уже слышался его негромкий равномерный храп.
Остальные тоже поспешно устроились вкруг костра, но долго ворочались, то и дело отрывая головы от лежанки и прислушиваясь. Однако усталость взяла свое, и вскоре все спали.
Глава 23
Нет, не все.
Каменский долго не мог уснуть: горело искусанное муравьями тело, ломота в костях выворачивала ноги, да и положение его было неясным: он все больше чувствовал, как усиливающаяся немощь отдаляет его от своих товарищей по несчастью, молодых и здоровых. Даже с виду хлипкий грузин Гоглидзе оказался прекрасным ходоком.
Немощь заставляла Варлама Александровича все время держаться в напряжении, в ожидании чего-то ужасного, непоправимого. Он тревожно спал по ночам: ему казалось, что Дедыко — почему-то именно этот мальчишка — заносит над ним топор и вот-вот ударит. Даже наяву его постоянно преследовало это видение, и он, идя вслед за Ерофеевым или Гоглидзе, то и дело оглядывался на Пашку, ожидая от него всяких пакостей.
В каждом слове Варламу Александровичу чудился намек на то, что он обуза для остальных, в каждом взгляде чудился упрек. Двое отошли и о чем-то говорят — это о нем, о том, как они собираются избавиться от него; Плошкин протирает свою винтовку — это он собирается его застрелить. И так во всем. Особенно теперь, после выстрела и маловразумительного объяснения бригадира…
Варлам Александрович лежал на спине и неотрывно смотрел вверх, туда, где меж густых ветвей проглядывали крупные и почти немигающие звезды. Трудно было представить, что эти же самые звезды горят в небе над Казанью, где остались жена и горбатая дочь, где осталось его прошлое, во всяком случае — с восемнадцатого года, когда он с семьей бежал из голодной Москвы в еще более-менее сытую Казань, недалеко от которой находилось его имение, в ту пору уже разграбленное мужиками…
Что делать, что делать? Боже мой, боже мой! Неужели ему предстоит умереть здесь, в этой глуши, без… и его даже не похоронят, а бросят на съедение тем же муравьям?! А потом его кости будут лежать под этой елью и год, и два, и целую вечность… под дождем, снегом, голодные звери будут грызть их и растаскивать…
Почему-то вот это самое, что его кости будут грызть, отдалось во всем теле Варлама Александровича острой болью. Он с трудом сдержал стон и закрыл глаза, выдавив на щеки несколько слезинок. Было жалко себя ужасно. Жалко, что не уехал в эмиграцию, что состоял в партии кадетов, которая и партией-то не была, а так — кучкой говорунов и простофиль, поверивших этим говорунам, то есть не поймешь чем, зато теперь, при большевиках, приходится расплачиваться именно простофилям, каким оказался и он сам. Было жаль жену, когда-то безумно его любившую, жаль горбунью-дочь, у которой нет ни настоящего, ни будущего, жаль сына-офицера, погибшего в оренбургских степях в стычке с красными…

«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.
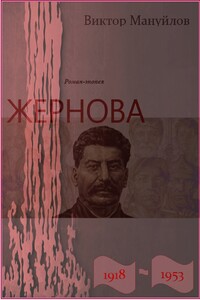
«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».
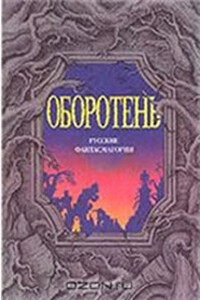
Книга знакомит с увлекательными произведениями из сокровищницы русской фантастической прозы XIX столетия.Таинственное, чудесное, романтическое начало присуще включенным в сборник повестям и рассказам А.Погорельского, О.Сомова, В.Одоевского, Н.Вагнера, А.Куприна и др. Высокий художественный уровень, занимательный сюжет, образный язык авторов привлекут внимание не только любителей фантастики, но и тех, кто интересуется историей отечественной литературы в самом широком плане.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Уже XX веков имя Иуды Искариота олицетворяет ложь и предательство. Однако в религиозных кругах христиан-гностиков всё настойчивее звучит мнение, основанное на якобы найденных свитках: "Евангелие от Иуды", повествующее о том, что Иисус Христос сам послал лучшего и любимого ученика за солдатами, чтобы через страдание и смерть обрести бессмертие. Иуда, беспрекословно выполняя волю учителя, на века обрекал свое имя на людское проклятие.Так кто же он – Иуда Искариот: великий грешник или святой мученик?

Знаете ли вы, что великая Коко Шанель после войны вынуждена была 10 лет жить за границей, фактически в изгнании? Знает ли вы, что на родине ее обвиняли в «измене», «антисемитизме» и «сотрудничестве с немецкими оккупантами»? Говорят, она работала на гитлеровскую разведку как агент «Westminster» личный номер F-7124. Говорят, по заданию фюрера вела секретные переговоры с Черчиллем о сепаратном мире. Говорят, не просто дружила с Шелленбергом, а содержала после войны его семью до самой смерти лучшего разведчика III Рейха...Что во всех этих слухах правда, а что – клевета завистников и конкурентов? Неужели легендарная Коко Шанель и впрямь побывала «в постели с врагом», опустившись до «прислуживания нацистам»? Какие еще тайны скрывает ее судьба? И о чем она молчала до конца своих дней?Расследуя скандальные обвинения в адрес Великой Мадемуазель, эта книга проливает свет на самые темные, загадочные и запретные страницы ее биографии.

Повесть о четырнадцатилетнем Василии Зуеве, который в середине XVIII века возглавил самостоятельный отряд, прошел по Оби через тундру к Ледовитому океану, изучил жизнь обитающих там народностей, описал эти места, исправил отдельные неточности географической карты.
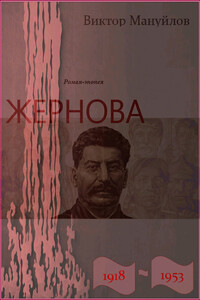
Весна тридцать девятого года проснулась в начале апреля и сразу же, без раскачки, принялась за работу: напустила на поля, леса и города теплые ветры, окропила их дождем, — и снег сразу осел, появились проталины, потекли ручьи, набухли почки, выступила вся грязь и весь мусор, всю зиму скрываемые снегом; дворники, точно после строгой комиссии райсовета, принялись ожесточенно скрести тротуары, очищая их от остатков снега и льда; в кронах деревьев загалдели грачи, первые скворцы попробовали осипшие голоса, зазеленела первая трава.
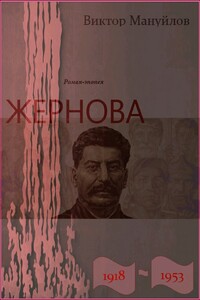
«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».
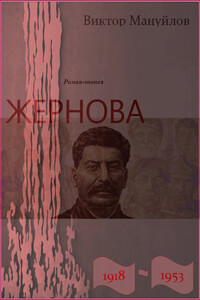
«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.
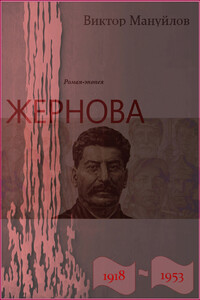
"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".