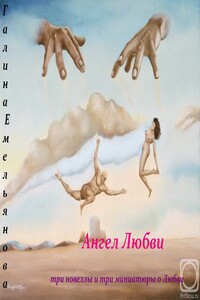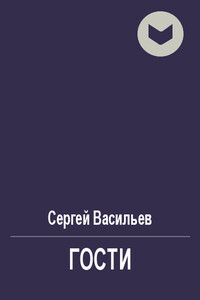— А ведь я ее Ванечка видела, мне считать велели, наркоз дали, тут я ее и увидела, стоишь ты в степи, а рядом она летает, я так испугалась за тебя, что даже наркоз никак меня не брал. Доктора сердились, пьяницей обзывали.
Мать заплакала тихо, безобидно, на лбу от долгого разговора выступил пот, и Иван, достав платок, вытер ей и лоб, и глаза.
— Я их не виню, работа адская, платят мало. Ты им сынок, все как положено, конфеты, коньяк, не скупись, с того света меня старуху вытащили.
— Все сделаю мам, и с братом помирюсь, а я ведь совсем осесть думаю в деревне нашей.
— Неужто? Вот радость нежданная.
— Да, стаж уже есть, вот слетаю, документы оформлю, а с братом я помирюсь, мама непременно, помнишь, как мы вместе пироги пекли? Вот приеду, соберемся все вместе и таких пирогов напечем. Ты главное поправляйся.
В палату заглянула медсестра, и шепотом позвала мужчину.
— Все, хватит, завтра в общую палату переведут. А что у Вас на голове, шишка? Давайте обработаю, как положено.
Женщина и рану промыла, и смазала чем-то, рука у нее была такая легкая, Иван даже успел задремать.
— Ну вот и все, а вам ночевать есть где? — разбудил его лаковый голос медсестры.
Она была миловидна, лет на десять младше, но мужчина, так ничего и не понял из ее женского призыва, поблагодарил, положив в карман халата деньги, ушел.
Ровно на Михайлов день маму забрали из больницы, приехал зять Сергея, Иван всю дорогу держал маму за руку, та дремала от слабости всю дорогу.
Мамин дом встретил детскими голосами, нестройным пением снохи и племянниц.
Маму посадили за широкий стол, под образа, а верховодила всем племянница Ивана — Настя. Высокая, дородная, на восьмом месяце беременности, она ловко управлялась и с сестрами, и с тестом.
— Ишь, какая, — одобрительно сказал вслух Иван, и Сергей его услышал, и гордо улыбнулся. И стало понятно, что зол он был не за себя, а за мать, за то, что Иван не ехал так долго, а звонил и писал редко.
Под мамины расстегаи с рыбой, Иван и Сергей пили, чистый, как слеза самогон.
Мама, сильно похудевшая, сидела во главе стола, и улыбалась. Руки ее, не привыкшие к безделью, теребили край, той самой «праздничной» скатерти с мережкой.
— Ваня, Ваня, ты за упокой подал в церковь?
— Так ведь мама, имя то уже никто и не помнит, я за нее сам молюсь.
— И то верно, я тоже молюсь.
Иван опрокинул рюмку и умолчал о жутких снах, в которых снежная женщина, звала его суженным, и просила подарить ей ребенка.