Желтый. История цвета - [48]
По правде говоря, этот поворот начался достаточно давно: в середине XIX века, когда появился гибкий металлический тюбик для краски, с завинчивающейся герметичной крышкой. Теперь краски станет легче хранить и переносить с места на место, что позволяет работать под открытым небом. С этого момента лишь немногие художники еще будут сами изготавливать для себя пигменты: остальные отдают предпочтение готовым, промышленным краскам, на которые, впрочем, не всегда можно положиться. В гамме желтых тонов в большой моде два синтетических пигмента: желтый хром, сравнительно недорогой, но очень нестойкий, и желтый кадмий, более прочный, но и более дорогой. Такого бедного и так страстно влюбленного в желтые тона художника, как Ван Гог, желтый хром нередко подводил: желтые мазки на картине превращались в бежевые или коричневые (в серии «Подсолнухов»), или даже в зеленоватые; но он не мог позволить себе желтый кадмий, который стоил в четыре-пять раз дороже[208].
Из-за того, что художники теперь работают на пленэре, во всей живописи вообще краски становятся более светлыми, тона более чистыми, меняется отношение к свету. Все это идет на пользу желтому. Но есть и еще одна причина, по которой желтого на картинах становится больше: это его статус «первичного» цвета и увлечение художников новыми научными идеями, в частности теориями Мишеля Эжена Шеврёля о видении цвета, о законе одновременного контраста цветов и о принципе оптического смешения[209]. Как объясняет Шеврёль, вовсе не обязательно смешивать две краски на палитре, чтобы получить из них третью: достаточно расположить два цвета рядом – и они будут оптически сливаться и восприниматься зрением как один. Это открытие производит огромное впечатление на художников – импрессионистов, постимпрессионистов, дивизионистов, пуантилистов. Теперь можно обходиться без зеленых пигментов: некоторые живописцы просто кладут два мазка, синий и желтый, вплотную друг к другу; зрение их сближает, смешивает и воспринимает как зеленый. Однако некоторые художники слишком увлеклись этим новым методом, и в результате их, как Ван Гога, подвели желтые пигменты. Так случилось с Писсарро и Сислеем. Но самый показательный пример – знаменитая громадная картина Сёра «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» (1884–1885): чтобы создать зеленый цвет, художник во многих местах положил рядом маленькие мазки-пятнышки двух чрезвычайно нестойких пигментов – берлинской лазури и желтого хрома, которые превратились соответственно в серые и коричневые. Несмотря на многочисленные, иногда более, иногда менее успешные попытки реставрации, на картине до сих пор видны последствия этого нового метода[210]. Как многие другие, Сёра стал жертвой науки, точнее, неверного понимания и неуклюжего внедрения в жизнь ее достижений. На самом деле далеко не все художники держали в руках объемистый, фундаментальный, весьма непростой для чтения труд Шеврёля «О законе одновременного контраста цветов» (1839). Большинство из них довольствовались пересказами, в частности кратким изложением, которое Шарль Блан опубликовал в своей книге «Грамматика искусства рисунка» (1867), быстро ставшей бестселлером[211].
Но самыми преданными поклонниками желтых тонов все же были не импрессионисты и не их последователи, а молодые фовисты 1906–1910 годов – Дерен, Матисс, Марке, ван Донген, Манген, Вламинк и еще несколько художников. Под влиянием Гогена и Ван Гога они впали в «колористическое помешательство» и решили отныне прославлять чистый цвет, освобожденный от норм, которые властвовали над ним со времен Возрождения и сделали его рабом рисунка. С этой целью они отказались от перспективы, от реализма, от классических традиций живописи, а главное, от местного колорита: у фовистов, как в средневековой миниатюре, что угодно может быть какого угодно цвета, во имя принципа, который они называют «поэтической вольностью колорита»[212]. Другая их особенность – удивительная быстрота в работе, размашистый мазок, поиск звучных, сочных контрастов[213]. Все это идет на пользу желтому, которым фовисты пользуются очень широко и придают ему теплые, яркие, насыщенные тона, близкие к оранжевому.
На границах желтого: оранжевый
Перед тем как завершить наш долгий рассказ об истории желтого, скажем несколько слов об оранжевом, цвете, который встречался нам много раз, однако мы не обращали на него внимания. По правде говоря, оранжевый существовал не всегда, по крайней мере в теориях и рассуждениях, посвященных цвету. Ни античные, ни средневековые авторы не считают его отдельной хроматической категорией. В лексике нет слова, которым можно было бы обозначить оранжевые тона, встречающиеся в природе. Чтобы найти обозначение для цветов и фруктов этого оттенка, придется долго перебирать термины, относящиеся к желтой, коричневой или красной цветовой гамме[214]. Зачастую его путают с рыжим (rufus), а этот цвет – как позорная отметина: он соединяет в себе все негативные коннотации желтого и красного, да еще добавляет к этой адской смеси неприятный темный оттенок. Я подробно рассказывал о рыжем в моей предыдущей книге, посвященной истории красного
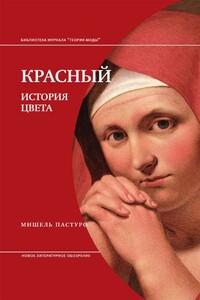
Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Уже название этой книги звучит интригующе: неужели у полосок может быть своя история? Мишель Пастуро не только утвердительно отвечает на этот вопрос, но и доказывает, что история эта полна самыми невероятными событиями. Ученый прослеживает историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и показывает, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, как постоянно усложнялись системы значений, связанных с полосками, как в материальном, так и в символическом плане. Так, во времена Средневековья одежда в полосу воспринималась как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.

Данная монография является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро – истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века, начатого им с исследования отношений европейцев с синим цветом. На этот раз в центре внимания Пастуро один из самых загадочных и противоречивых цветов с весьма непростой судьбой – черный. Автор предпринимает настоящее детективное расследование приключений, а нередко и злоключений черного цвета в западноевропейской культуре. Цвет первозданной тьмы, Черной смерти и Черного рыцаря, в Средние века он перекочевал на одеяния монахов, вскоре стал доминировать в протестантском гардеробе, превратился в излюбленный цвет юристов и коммерсантов, в эпоху романтизма оказался неотъемлемым признаком меланхолических покровов, а позднее маркером элегантности и шика и одновременно непременным атрибутом повседневной жизни горожанина.
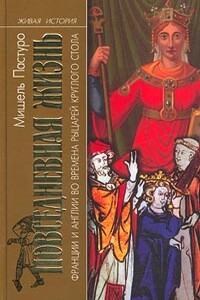
Книга известного современного французского историка рассказывает о повседневной жизни в Англии и Франции во второй половине XII – первой трети XIII века – «сердцевине западного Средневековья». Именно тогда правили Генрих Плантагенет и Ричард Львиное Сердце, Людовик VII и Филипп Август, именно тогда совершались великие подвиги и слагались романы о легендарном короле бриттов Артуре и приключениях рыцарей Круглого стола. Доблестные Ланселот и Персеваль, королева Геньевра и бесстрашный Говен, а также другие герои произведений «Артурианы» стали образцами для рыцарей и их дам в XII—XIII веках.

Данная книга — итог многолетних исследований, предпринятых автором в области русской мифологии. Работа выполнена на стыке различных дисциплин: фольклористики, литературоведения, лингвистики, этнографии, искусствознания, истории, с привлечением мифологических аспектов народной ботаники, медицины, географии. Обнаруживая типологические параллели, автор широко привлекает мифологемы, сформировавшиеся в традициях других народов мира. Посредством комплексного анализа раскрываются истоки и полисемантизм образов, выявленных в быличках, бывальщинах, легендах, поверьях, в произведениях других жанров и разновидностей фольклора, не только вербального, но и изобразительного.

На знаменитом русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа упокоились священники и царедворцы, бывшие министры и красавицы-балерины, великие князья и террористы, художники и белые генералы, прославленные герои войн и агенты ГПУ, фрейлины двора и портнихи, звезды кино и режиссеры театра, бывшие закадычные друзья и смертельные враги… Одни из них встретили приход XX века в расцвете своей русской славы, другие тогда еще не родились на свет. Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин, Матильда Кшесинская, Шереметевы и Юсуповы, генерал Кутепов, отец Сергий Булгаков, Алексей Ремизов, Тэффи, Борис Зайцев, Серж Лифарь, Зинаида Серебрякова, Александр Галич, Андрей Тарковский, Владимир Максимов, Зинаида Шаховская, Рудольф Нуриев… Судьба свела их вместе под березами этого островка ушедшей России во Франции, на погосте минувшего века.

Наркотики. «Искусственный рай»? Так говорил о наркотиках Де Куинси, так считали Бодлер, Верлен, Эдгар По… Идеальное средство «расширения сознания»? На этом стояли Карлос Кастанеда, Тимоти Лири, культура битников и хиппи… Кайф «продвинутых» людей? Так полагали рок-музыканты – от Сида Вишеса до Курта Кобейна… Практически все они умерли именно от наркотиков – или «под наркотиками».Перед вами – книга о наркотиках. Об истории их употребления. О том, как именно они изменяют организм человека. Об их многочисленных разновидностях – от самых «легких» до самых «тяжелых».

Период Токугава (1603–1867 гг.) во многом определил стремительный экономический взлет Японии и нынешний ее триумф, своеобразие культуры и представлений ее жителей, так удивлявшее и удивляющее иностранцев.О том интереснейшем времени рассказывает ученый, проживший более двадцати лет в Японии и посвятивший более сорока лет изучению ее истории, культуры и языка; автор нескольких книг, в том числе: “Япония: лики времени” (шорт-лист премии “Просветитель”, 2010 г.)Для широкого круга читателей.

Выдающийся деятель советского театра Б. А. Покровский рассказывает на страницах книги об особенностях профессии режиссера в оперном театре, об известных мастерах оперной сцены. Автор делится раздумьями о развитии искусства музыкального театра, о принципах новаторства на оперной сцене, о самой природе творчества в оперном театре.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII – начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем – шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой.

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что считать ее не очень серьезной сферой культуры, не способной соперничать с высокими стандартами искусства, было бы слишком легкомысленно. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

Мода – не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы – в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.