Желтый. История цвета - [46]
Сначала под «желтой опасностью» подразумевали Китай, который тогда стал пробуждаться, и это было заметно во многих областях жизни, затем – Японию, которая проявила ярый милитаризм в кровопролитной войне с Россией в 1904–1905 годах. Некоторые политики даже боялись, что Китай и Япония станут союзниками и тут «желтая опасность» встанет во весь рост. Позднее, в 1931–1932 годах, во время автопробега Бейрут – Пекин, трасса которого пролегала через Среднюю Азию, газеты и широкая публика называли его «Желтый рейд»: тут был определенный уничижительный смысл, или, во всяком случае, небезобидный намек. Видимо, почувствовав это, власти дали автопробегу другое, официальное название: «Миссия в Центральную Азию»[192].
Сегодня во Франции никто уже не говорит «желтые» о жителях Дальнего Востока и не называет мужчину или женщину из Азии «желтым» или «желтой». Сейчас говорят «уроженец Азии» или «уроженка Азии». Однако в мире спорта азиатский континент по-прежнему связан с желтым цветом: на олимпийском флаге с шестью кольцами, созданном в 1912 году, но впервые поднятом только на Играх 1920 года в Антверпене, Азию символизирует желтое кольцо[193]. Это не был выбор жителей Азии (штаб-квартира Международного олимпийского комитета находилась в Европе, сначала в Париже, затем в Лозанне), однако на сегодняшний день он, по-видимому, не вызывает возражений.
Неприметность, изгойство, модернизм
С 1850‐х годов и вплоть до Первой мировой войны роль желтого в повседневной жизни не только не усиливается (он успел отойти на задний план в первые десятилетия XIX века) – а становится еще скромнее. Тому есть несколько причин; и главную из них, скорее всего, следует искать в особенностях общественной морали в период второй примышленной революции. Как в Европе, так и в Соединенных Штатах большинство финансистов и крупных промышленников исповедуют протестантизм. Неудивительно поэтому, что с возрастанием производства товаров массового потребления возрастает и влияние протестантской морали. К чему это приводит в такой области, как цвет? К отказу от ярких красок: теперь любимые цвета – белый, черный, серый и коричневый; желтый, наравне с красным, становится первой жертвой протестантской морали, возникшей в XVI веке и еще не выдохшейся к веку XIX[194]. Как раз в это время химия красящих веществ бурно развивается, и благодаря ее успехам люди могли бы окружить себя сочными, разнообразными красками, не тратя на это много денег, – но повсюду, как и раньше, доминируют унылые, блеклые цвета. Поэтому в интерьерах и в домашнем текстиле, в городских квартирах и провинциальных домах обеспеченных классов можно увидеть лишь крохотные вкрапления желтого: золото и позолоту былых времен теперь заменила более или менее потемневшая бронза. В одежде желтого тоже осталось совсем мало: женщины носят его только изредка (причем исключительно брюнетки[195]), а мужчины не носят вообще: ни один мужчина не осмелится надеть желтое, если только он не хочет обратить на себя всеобщее внимание или сознательно нарушить общепринятые нормы поведения. Такой решительный отказ от желтого способствует популярности бежевого, оттенка, который появился сравнительно недавно, и встречаемость которого в женской и мужской одежде начиная с 1920–1930‐х годов будет неуклонно возрастать.
Другая причина изгнания желтого из повседневной жизни – его по-прежнему незавидное место в существующей системе ценностей и традиционном восприятии. Как на исходе Средневековья и в течение всего Нового времени, желтый в XIX веке остается нелюбимым цветом. Доказательством этого могут служить опросы общественного мнения, которые начинают проводиться в Германии в 1880‐х годах. Тема опроса – ваши любимые цвета и символика, которая у вас с ними связана. Все респонденты подчеркивают, что желтый цвет им неприятен и вызывает негативные ассоциации: среди шести базовых цветов он занимает последнее место – менее 3 % опрошенных называют его своим любимым цветом (у синего эта цифра составляет почти 50 %, у зеленого – от 18 до 20 %[196]), и многие, как в стародавние времена, называют его цветом лжи, зависти и обмана. На театральной сцене костюмы желтого цвета носят рогоносцы и обманутые жены; в политике его избегают, потому что у людей он до сих пор связан с представлением об измене и вероломстве. В 1889–1900 годах, во время забастовок на шахтах в Ле-Крёзо, параллельно уже существующим профсоюзам были организованы новые, впоследствии прозванные «желтыми профсоюзами»: они утверждали, что защищают права шахтеров, а на самом деле действовали в интересах шахтовладельцев (по крайней мере, так говорили их противники из «красных профсоюзов»). «Желтые профсоюзы» не поддерживали забастовку, называли себя представителями «правого крыла» пролетариата или даже революционного движения, выступающего против «красных», то есть противниками социалистов (а позднее противниками коммунистов)[197].
В данном случае желтый цвет символизирует обман во всех его аспектах: перед нами и обманщики, и обманутые! Но это далеко не единственная негативная коннотация желтого, есть и другие. У желтого повсюду отвратительная репутация, доказательства этого можно найти в лексике разных европейских языков. По-итальянски «желтый» (giallo) значит «предатель»; в английском арго «желтая собака» (yellow dog) значит «трус», скандальные бульварные газеты с 1900‐х годов называются «желтой прессой» (the yellow press). То же самое мы наблюдаем и в других языках: на немецком gelber Laune sein значит «злиться» (буквально: быть в желтом настроении); по-голландски gele verhalen vertellen значит «врать» (буквально: «рассказывать желтые истории»). Глагол «желтеть» и во французском, и в языках других европейских стран (jaunir; to turn yellow; vergilben; ingiallire) помимо буквального – становиться желтым – имеет и переносный, негативный смысл: «становиться грязным», «засыхать», «изнашиваться», «стареть», «плесневеть», «гнить» и так далее. Как в старинной форме, так и в современной, язык безжалостен к желтому цвету, который вначале бывает очень красивым, но быстро блекнет либо пачкается.
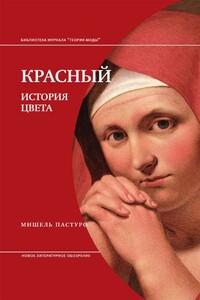
Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Уже название этой книги звучит интригующе: неужели у полосок может быть своя история? Мишель Пастуро не только утвердительно отвечает на этот вопрос, но и доказывает, что история эта полна самыми невероятными событиями. Ученый прослеживает историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и показывает, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, как постоянно усложнялись системы значений, связанных с полосками, как в материальном, так и в символическом плане. Так, во времена Средневековья одежда в полосу воспринималась как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.

Данная монография является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро – истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века, начатого им с исследования отношений европейцев с синим цветом. На этот раз в центре внимания Пастуро один из самых загадочных и противоречивых цветов с весьма непростой судьбой – черный. Автор предпринимает настоящее детективное расследование приключений, а нередко и злоключений черного цвета в западноевропейской культуре. Цвет первозданной тьмы, Черной смерти и Черного рыцаря, в Средние века он перекочевал на одеяния монахов, вскоре стал доминировать в протестантском гардеробе, превратился в излюбленный цвет юристов и коммерсантов, в эпоху романтизма оказался неотъемлемым признаком меланхолических покровов, а позднее маркером элегантности и шика и одновременно непременным атрибутом повседневной жизни горожанина.
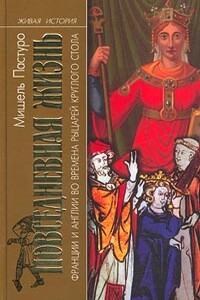
Книга известного современного французского историка рассказывает о повседневной жизни в Англии и Франции во второй половине XII – первой трети XIII века – «сердцевине западного Средневековья». Именно тогда правили Генрих Плантагенет и Ричард Львиное Сердце, Людовик VII и Филипп Август, именно тогда совершались великие подвиги и слагались романы о легендарном короле бриттов Артуре и приключениях рыцарей Круглого стола. Доблестные Ланселот и Персеваль, королева Геньевра и бесстрашный Говен, а также другие герои произведений «Артурианы» стали образцами для рыцарей и их дам в XII—XIII веках.

Данная книга — итог многолетних исследований, предпринятых автором в области русской мифологии. Работа выполнена на стыке различных дисциплин: фольклористики, литературоведения, лингвистики, этнографии, искусствознания, истории, с привлечением мифологических аспектов народной ботаники, медицины, географии. Обнаруживая типологические параллели, автор широко привлекает мифологемы, сформировавшиеся в традициях других народов мира. Посредством комплексного анализа раскрываются истоки и полисемантизм образов, выявленных в быличках, бывальщинах, легендах, поверьях, в произведениях других жанров и разновидностей фольклора, не только вербального, но и изобразительного.

Произведения античных писателей, открывающие начальные страницы отечественной истории, впервые рассмотрены в сочетании с памятниками изобразительного искусства VI-IV вв. до нашей эры. Собранные воедино, систематизированные и исследованные автором свидетельства великих греческих историков (Геродот), драматургов (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан), ораторов (Исократ,Демосфен, Эсхин) и других великих представителей Древней Греции дают возможность воссоздать историю и культуру, этногеографию и фольклор, нравы и обычаи народов, населявших Восточную Европу, которую эллины называли Скифией.

Сборник статей социолога культуры, литературного критика и переводчика Б. В. Дубина (1946–2014) содержит наиболее яркие его работы. Автор рассматривает такие актуальные темы, как соотношение классики, массовой словесности и авангарда, литература как социальный институт (книгоиздание, библиотеки, премии, цензура и т. д.), «формульная» литература (исторический роман, боевик, фантастика, любовный роман), биография как литературная конструкция, идеология литературы, различные коммуникационные системы (телевидение, театр, музей, слухи, спорт) и т. д.

В книге собраны беседы с поэтами из России и Восточной Европы (Беларусь, Литва, Польша, Украина), работающими в Нью-Йорке и на его литературной орбите, о диаспоре, эмиграции и ее «волнах», родном и неродном языках, архитектуре и урбанизме, пересечении географических, политических и семиотических границ, точках отталкивания и притяжения между разными поколениями литературных диаспор конца XX – начала XXI в. «Общим местом» бесед служит Нью-Йорк, его городской, литературный и мифологический ландшафт, рассматриваемый сквозь призму языка и поэтических традиций и сопоставляемый с другими центрами русской и восточноевропейской культур в диаспоре и в метрополии.
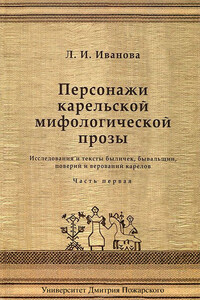
Данная книга является первым комплексным научным исследованием в области карельской мифологии. На основе мифологических рассказов и верований, а так же заговоров, эпических песен, паремий и других фольклорных жанров, комплексно представлена картина архаичного мировосприятия карелов. Рассматриваются образы Кегри, Сюндю и Крещенской бабы, персонажей, связанных с календарной обрядностью. Анализируется мифологическая проза о духах-хозяевах двух природных стихий – леса и воды и некоторые обряды, связанные с ними.

Наркотики. «Искусственный рай»? Так говорил о наркотиках Де Куинси, так считали Бодлер, Верлен, Эдгар По… Идеальное средство «расширения сознания»? На этом стояли Карлос Кастанеда, Тимоти Лири, культура битников и хиппи… Кайф «продвинутых» людей? Так полагали рок-музыканты – от Сида Вишеса до Курта Кобейна… Практически все они умерли именно от наркотиков – или «под наркотиками».Перед вами – книга о наркотиках. Об истории их употребления. О том, как именно они изменяют организм человека. Об их многочисленных разновидностях – от самых «легких» до самых «тяжелых».

Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII – начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем – шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой.

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что считать ее не очень серьезной сферой культуры, не способной соперничать с высокими стандартами искусства, было бы слишком легкомысленно. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

Мода – не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы – в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.