Жара - [3]
– И-иии, Трофимы-ыч! – вступилась за местного попа баба Дуня. – Неправда твоя. Батюшка-то был у нас давеча. Велел молить Осспода о ниспослании дождя… Как же, как же… печется об нас, грешных, – и баба Дуня мелко закрестилась скрюченной щепотью, оглядываясь на почерневшие лики святых, взирающие на мир суровыми очами из темного угла.
– Ну, ниспошлет Бог, нет ли, а нам плошать не положено, – звучно шлепнул по своим огромным коленям ладонями Трофимов, прежде чем подняться. – А бочки-то свои водой все-таки наполните. А то глянул – пустые. И, случ чего, я на вас, Петр Василич, рассчитываю. А то в деревне ни одного мужика, кроме нас с вами: всё старухи да старухи. Иные с внуками. Есть, правда, две молодухи с детьми. А с них со всех какой спрос? Никакого. – Доскрипел половицами до двери, оглянулся. – Ну, отдыхайте пока. А там будет видно.
Затем стало слышно, как жалобно стонут под его ногами ступени крыльца. Хлопнула калитка – и в избе сгустилась тишина.
– Па, а у нас тоже будет гореть? – спросила Светланка и с любопытством глянула на отца материными карими глазами.
– Ну что ты! – постарался успокоить дочерей Петр Васильевич. – Сколько существует наша деревня, а ни разу пожаров тут не припомню.
– Было! Было! – возразила баба Дуня. – Давно. В тридцатом, поди, годе. Тебя, Петюша, и на свете-то не было. И я в девках еще ходила. Сгорели у нас тут Мальковы. Старый Новый год отмечали и чегой-то там недоглядели. Полыхнуло так, что едва ноги из избы унесли. Всем миром тушили. Слава тебе, Оссподи, на другие избы не дали огню перекинуться. С тех пор, Бог миловал, не горели.Миновало несколько дней. Жара усилилась еще больше. Красный столбик термометра, висящего в затененном углу крыльца, стал добираться до тридцати восьми. Днем спасала речка. Вернее, ее не скудеющие омуты и не слишком глубокие ямы, на самом дне которых неподвижно стояли рыбьи косяки, прижимаясь к тому берегу, у которого держалась тень от могучих ив и неряшливой ольхи, забиваясь в красноватые бороды их корневищ. Вся приезжая малышня с утра до вечера плескалась в этих ямах под недремлющим оком своих бабок. Их визг далеко разносился по окрестным полям и лугам, пугая местное воронье и наполняя жизнью безлюдное пространство.
А в один из вечеров даже набежало откуда-то облако, заблистало молниями, загрохотало громами, как разболтанная телега на булыжной мостовой, и пролилось в конце концов дождиком, к разочарованию всех, не шибко большим и длительным, едва прибившим дорожную пыль.
Ребятишки прыгали под дождем, кричали нестройным хором:Дождик, дождик, припусти,
Дай напиться из горсти!
Дождик, лейся пуще,
Жито будет гуще!
И на какое-то время посвежело. А по телеку показывали утопающую в дыму Москву, там и сям горящие леса и деревни.
– Пап, а что такое жито? – спросила Светланка.
– Жито – это хлебушко, – опередила Петра Васильевича с ответом баба Дуня. – Хлебушко, что в поле растет. Что по весне посеяно. Рожь, ячмень там или пшеница. Раньше всё на деревне житом звалось.
И еще два дня прошли в тревожном ожидании чего-то, чего ни сами жители не понимали, ни Петр Васильевич при всей его учености, ни Александр Трофимович. Не понимали, но чувствовали какую-то тяжесть то ли на сердце, то ли еще где. От повышенного давления, говорят. А вечером второго дня, как раз в то предзакатное время, когда деревенские возвращались с речки со своими детьми, поднимаясь по косогору, а хозяйки шли отвязывать коз, со стороны деревни вдруг поперли змеи. Да так их было много, так много, что и ступить некуда.
Дети визжат, старухи то же самое, собаки заходятся в лае, но хватать гадюк остерегаются, а Петр Васильевич, бегая туда-сюда, отшвыривает ползущих тварей с дороги палкой-рогулькой, к которой крепили полотняный навес от солнца, подпрыгивая, отскакивая то в одну сторону, то в другую.
А они ползут и ползут, то сразу десятками, то по одиночке, то длинной кишкой, так что низкая пожухлая трава шевелится, будто из нее, такой никудышной, рождаются эти твари. И все ползут в одну сторону, будто слепые: ни людей не видят, ни собак, ничего и никого. Прошло, может, минут десять, показавшиеся Петру Васильевичу вечностью, и вся эта прорва исчезла в густой осоке, подступавшей к самой реке. Лишь кое-где еще извивались, медленно скользя по траве, аспидно-черные, блестящие, будто намазанные черным гуталином жгуты, догоняя основную массу. И одиночные змеи вскоре тоже исчезли в осоке.
Петр Васильевич остановился, тяжело дыша, с опаской оглядываясь по сторонам: ему все еще казалось, что если он не оглянется, то прозевает гадюку, которая непременно кого-нибудь укусит. И даже теперь эти исчезнувшие полчища держали его душу черными лапами ужаса, какого он не испытывал ни разу в жизни. В то же время в голове шевельнулась, пробившись сквозь ужас, мыслишка: хорошо было бы снять все это на камеру, чтобы потом показывать знакомым. Может, и телевидение показало бы. А что? Очень даже интересные кадры. И деньги, говорят, за это платят. Но камера осталась в избе, потому что все, что можно, уже было снято, и ничего нового не ожидалось.
Женщины и дети, сбившись в одну плотную кучку, всхлипывая и дрожа, тоже со страхом смотрели по сторонам и ждали, судя по всему, команды от Петра Васильевича, разрешающей движение. И Петр Васильевич готов уж был отдать такую команду, но на взгорке показался Александр Трофимович с лопатой и затрусил по дороге вниз. В его медвежеватой фигуре тоже было что-то такое, что внушало тревогу, и Петр Васильевич команды не подал. И вся деревня, до самых древних старух, высыпавшая к последней избе, молча смотрела вниз и тоже чего-то ждала.
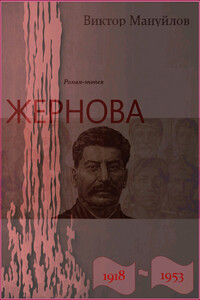
«Начальник контрразведки «Смерш» Виктор Семенович Абакумов стоял перед Сталиным, вытянувшись и прижав к бедрам широкие рабочие руки. Трудно было понять, какое впечатление произвел на Сталина его доклад о положении в Восточной Германии, где безраздельным хозяином является маршал Жуков. Но Сталин требует от Абакумова правды и только правды, и Абакумов старается соответствовать его требованию. Это тем более легко, что Абакумов к маршалу Жукову относится без всякого к нему почтения, блеск его орденов за военные заслуги не слепят глаза генералу.
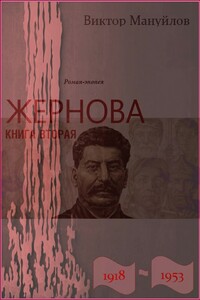
«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».
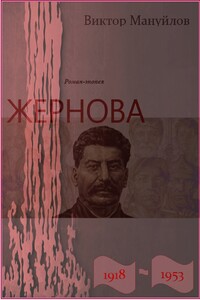
«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.
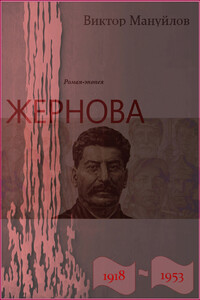
"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".
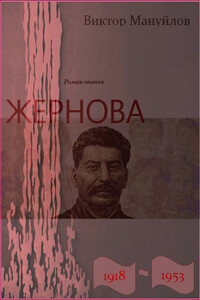
«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».
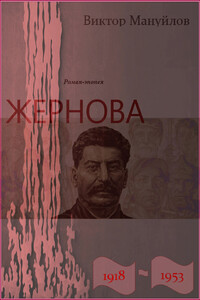
«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.
![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)
Книга состоит из сюжетов, вырванных из жизни. Социальное напряжение всегда является детонатором для всякого рода авантюр, драм и похождений людей, нечистых на руку, готовых во имя обогащения переступить закон, пренебречь собственным достоинством и даже из корыстных побуждений продать родину. Все это есть в предлагаемой книге, которая не только анализирует социальное и духовное положение современной России, но и в ряде случаев четко обозначает выходы из тех коллизий, которые освещены талантливым пером известного московского писателя.
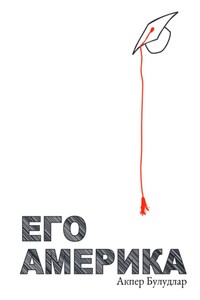
Эти дневники раскрывают сложный внутренний мир двадцатилетнего талантливого студента одного из азербайджанских государственных вузов, который, выиграв стипендию от госдепартамента США, получает возможность проучиться в американском колледже. После первого семестра он замечает, что учёба в Америке меняет его взгляды на мир, его отношение к своей стране и её людям. Теперь, вкусив красивую жизнь стипендиата и став новым человеком, он должен сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.

Тревожные тексты автора, собранные воедино, которые есть, но которые постоянно уходили на седьмой план.