Зазвездный зов - [36]
"О, яркого созвучья новый звон..."
"В руке моей качалось коромысло..."
"Во мраке повторяемых опричин..."
Н.М.
"Гремит столпотворение времен..."
"Мы бронзовые люди могикане..."
"О той второй по качеству кровати..."
"В тяжелые тисненые тома..."
"Вооружен ты луком и стрелами..."
Н.М.
"Один лишь меч над головой Дамокла..."
"Сыченой брагой рог наполнен турий..."
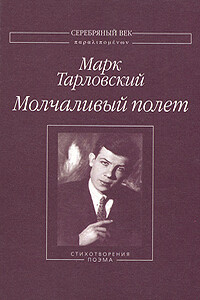
В книге с максимально возможной на сегодняшний день полнотой представлено оригинальное поэтическое наследие Марка Ариевича Тарловского (1902–1952), одного из самых виртуозных русских поэтов XX века, ученика Э. Багрицкого и Г. Шенгели. Выпустив первый сборник стихотворений в 1928, за год до начала ужесточения литературной цензуры, Тарловский в 1930-е гг. вынужден был полностью переключиться на поэтический перевод, в основном с «языков народов СССР», в результате чего был практически забыт как оригинальный поэт.
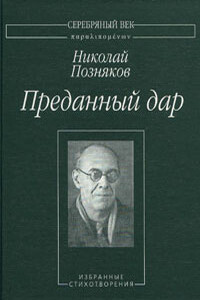
Случайная фраза, сказанная Мариной Цветаевой на допросе во французской полиции в 1937 г., навела исследователей на имя Николая Познякова - поэта, учившегося в московской Поливановской гимназии не только с Сергеем Эфроном, но и с В.Шершеневчем и С.Шервинским. Позняков - участник альманаха "Круговая чаша" (1913); во время войны работал в Красном Кресте; позже попал в эмиграцию, где издал поэтический сборник, а еще... стал советским агентом, фотографом, "парижской явкой". Как Цветаева и Эфрон, в конце 1930-х гг.

В настоящее издание вошли все стихотворения Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1886–1950), хранящиеся в РГАЛИ. Несмотря на несовершенство некоторых произведений, они представляют самостоятельный интерес для читателя. Почти каждое содержит темы и образы, позже развернувшиеся в зрелых прозаических произведениях. К тому же на материале поэзии Кржижановского виден и его основной приём совмещения разнообразных, порой далековатых смыслов культуры. Перед нами не только первые попытки движения в литературе, но и свидетельства серьёзного духовного пути, пройденного автором в начальный, киевский период творчества.

Русский американский поэт первой волны эмиграции Георгий Голохвастов - автор многочисленных стихотворений (прежде всего - в жанре полусонета) и грандиозной поэмы "Гибель Атлантиды" (1938), изданной в России в 2008 г. В книгу вошли не изданные при жизни автора произведения из его фонда, хранящегося в отделе редких книг и рукописей Библиотеки Колумбийского университета, а также перевод "Слова о полку Игореве" и поэмы Эдны Сент-Винсент Миллей "Возрождение".