Зависимость - [24]
В постели он в последний раз обнял меня, но заметил, что я далека и отстранена. Да, произнес он, ты влюбилась в другого. Такое может случиться с каждым, в кругу наших знакомых — привычное дело. Но я всё равно не могу поверить. Всё равно сломлен, хотя этого и не показываю. Это мой недостаток — всегда старался не обнаруживать чувств. Если бы я показал, как сильно тебя люблю, вероятно, всего этого и не случилось бы. Эббе, произнесла я, касаясь пальцами его век, мы будем видеться, и, может быть, ты познакомишься с Карлом. Может быть, мы будем хорошо ладить втроем. Нет, неожиданно отрезал он, пусть он даже не показывается мне на глаза — только ты и Хэлле. Я приподнялась и мгновение разглядывала его красивое молодое лицо с нежными, едва проступающими чертами. Что, если бы я рассказала правду? Если бы я рассказала, что влюбилась в жидкость в шприце, а вовсе не в мужчину — хозяина этого шприца? Но я не рассказала — никому. Это было как в детстве: сладкие секреты рушатся, стоит только открыть их взрослым. Я повернулась на бок и заснула. На следующий день вместе с Хэлле нам предстояло переехать в пансион в Шарлоттенлунде, который для нас подыскал Карл.
Это оказался пансион для пожилых одиноких женщин. Комната обставлена плетеной мебелью, обитой кретоном, там же кресло-качалка с привязанной к нему подушкой под спину, высокая металлическая кровать еще из восьмидесятых и небольшой дамский письменный стол, который едва не разваливается, когда я обрушиваю на него свою печатную машинку. Даже маленькая детская кроватка среди этой рухляди кажется прочной, не говоря уже о самой Хэлле. Из перевернутого кресла-качалки она сооружает лодку и в первый же день принимается грызть отвратительно уродливую фигуру Христа в полный рост, стоящую за письменным столом. В этот период Хэлле не хватало кальция. Среди монашеского спокойствия ее пронзительный детский голос звучит с дерзкой силой, и ко мне по очереди являются пожилые дамы с просьбой вести себя потише. Я вообще не понимаю, как нам разрешили здесь жить. На следующее утро я принимаюсь печатать на машинке — возмущается весь пансион, и директриса, тоже в возрасте, приходит ко мне с вопросом, нельзя ли обойтись без этого шума. Все жильцы отрешились от мирской суеты, говорит она, и даже семьи считают их мертвыми. По крайней мере родственники никогда их не навещают и только и ждут момента, чтобы унаследовать, что после них останется. Я внимательно выслушиваю директрису, потому что уезжать отсюда не хочу. Мне нравится и само место, и комната, и вид на два молодых клена, между которыми болтается рваный гамак. Его бечевки еще покрыты снегом, хотя на дворе почти март. У женщины нездоровое и кроткое лицо с красивыми нежными глазами. Она сажает Хэлле к себе на колени так осторожно, словно крепкая малышка может сломаться от малейшего прикосновения. Мы договариваемся, что я не стану пользоваться машинкой с часу до трех дня, пока женщины почивают. Я обещаю время от времени заглядывать к жилицам пансионата, раз уж их близкие совсем о них позабыли. Приятно навещать дам, у которых еще сохранился слух и которые пока не озлобились от того, что оказались здесь, на конечной станции. По вечерам всегда находится кому присмотреть за Хэлле, пока я хожу к Карлу. Делаю я это часто. Устраиваюсь на его оттоманке, подложив руки под голову и прижав колени к груди, и слежу за его работой. По всей комнате расставлены колбы и пробирки в деревянных подставках. Он задумчиво пробует их содержимое, кончик языка скользит между губами. Затем он заносит что-то в длинный отчет. Я интересуюсь, что он пробовал. Мочу, отвечает он спокойно. Фу, восклицаю я. Он улыбается: чище мочи ничего нет. У него необычная осторожная походка, словно он боится кого-то разбудить, под настольной лампой его густые волосы отсвечивают медью. Первые три раза, когда я прихожу к нему, он делает мне укол и позволяет пассивно и мечтательно лежать, совсем не мешая мне. Но на четвертый раз он произносит: нет, нам нужно немного притормозить — это ведь не лакрица. От разочарования у меня на глазах выступают слезы.
Навещая нас с Хэлле, Эббе чаще всего заявляется пьяным, и лицо его всегда обнаженное и беззащитное — нет сил на него смотреть. Я разглядываю два клена: в их ветвях застревает солнце, ветер рисует на лужайке скользящие узоры теней, а я тем временем думаю: ни один мужчина больше не захочет жениться на мне. Эббе немного играет с Хэлле, и она говорит: папа — милый. Ей не нравится Карл: она долго не позволяет ему даже прикоснуться к ней.
Я сдала сборник рассказов, и сейчас у меня совершенно пропало желание писать. В голове одна и та же мысль: как заставить Карла снова дать мне петидин? Я вспоминаю его слова о том, что это обезболивающее. Что же мне придумать: где у меня болит? Из моего уха после старого недолеченного воспаления средней его части время от времени что-то течет, и однажды, лежа в постели Карла и наблюдая, как он снует по комнате и болтает по очереди то со мной, то с самим собой, я хватаюсь за ухо и кричу: ой, как же больно. Он садится на край кровати и спрашивает с сочувствием: так сильно? Я кривлю лицо, словно страдаю невыносимо. Да, отвечаю я, совсем невозможно терпеть, у меня так иногда бывает. Он пододвигает лампу, чтобы заглянуть внутрь уха. Да, течет, с ужасом произносит он, обещай пойти к врачу. Я подыщу тебе специалиста. Он треплет меня по щеке: ну, так уж и быть, сделаю тебе укольчик. В знак благодарности я улыбаюсь — жидкость вливается в мою кровь и возвышает меня до того самого уровня, где бы я всегда хотела находиться. Как обычно, он ложится со мной в постель в самый сильный момент воздействия укола. Объятия его странно коротки и грубы, никаких любовных ласк, никаких нежностей — да и я ничего не ощущаю. Легкие, тонкие, непринужденные мысли скользят в моей голове: с теплотой думаю я о друзьях, которых почти не вижу, и веду с ними воображаемые беседы. Как ты могла, недавно спросила Лизе, влюбиться в него? Я ответила, что чужую влюбленность не понять. Я лежу несколько часов, и эффект медленно рассеивается. Возвращаться к обнаженному, отрезвляющему состоянию становится всё труднее. Всё представляется серым, слизким, уродливым, невыносимым. Прощаясь, Карл осведомляется, когда я разберусь с разводом. В любой момент, обещаю я — кажется, что, выйди я за него замуж, добиваться уколов будет легче. А как ты думаешь, могла бы ты родить еще одного ребенка? — интересуется он уже на лестнице. Могла бы, тороплюсь я с ответом, потому что ребенок накрепко привяжет Карла ко мне, а всё, о чем я мечтаю, — это удержать его до конца жизни.

Тове знает, что она неудачница и ее детство сделали совсем для другой девочки, которой оно пришлось бы в самый раз. Она очарована своей рыжеволосой подругой Рут, живущей по соседству и знающей все секреты мира взрослых. Но Тове никогда по-настоящему не рассказывает о себе ни ей, ни кому-либо еще, потому что другие не выносят «песен в моем сердце и гирлянд слов в моей душе». Она знает, что у нее есть призвание и что однажды ей неизбежно придется покинуть узкую улицу своего детства.«Детство» – первая часть «копенгагенской трилогии», читающаяся как самостоятельный роман воспитания.
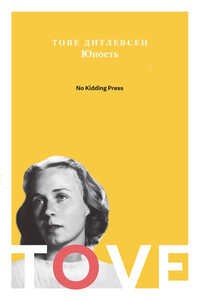
Тове приходится рано оставить учебу, чтобы начать себя обеспечивать. Одна низкооплачиваемая работа сменяет другую. Ее юность — «не более чем простой изъян и помеха», и, как и прежде, Тове жаждет поэзии, любви и настоящей жизни. Пока Европа погружается в войну, она сталкивается со вздорными начальниками, ходит на танцы с новой подругой, снимает свою первую комнату, пишет «настоящие, зрелые» стихи и остается полной решимости в своем стремлении к независимости и поэтическому признанию.

Рассказы в предлагаемом вниманию читателя сборнике освещают весьма актуальную сегодня тему межкультурной коммуникации в самых разных её аспектах: от особенностей любовно-романтических отношений между представителями различных культур до личных впечатлений автора от зарубежных встреч и поездок. А поскольку большинство текстов написано во время многочисленных и иногда весьма продолжительных перелётов автора, сборник так и называется «Полёт фантазии, фантазии в полёте».

Побывав в горах однажды, вы или безнадёжно заболеете ими, или навсегда останетесь к ним равнодушны. После первого знакомства с ними у автора появились симптомы горного синдрома, которые быстро развились и надолго закрепились. В итоге эмоции, пережитые в горах Испании, Греции, Швеции, России, и мысли, возникшие после походов, легли на бумагу, а чуть позже стали частью этого сборника очерков.

Спасение духовности в человеке и обществе, сохранение нравственной памяти народа, без которой не может быть национального и просто человеческого достоинства, — главная идея романа уральской писательницы.

Перед вами грустная, а порой, даже ужасающая история воспоминаний автора о реалиях белоруской армии, в которой ему «посчастливилось» побывать. Сюжет представлен в виде коротких, отрывистых заметок, охватывающих год службы в рядах вооружённых сил Республики Беларусь. Драма о переживаниях, раздумьях и злоключениях человека, оказавшегося в агрессивно-экстремальной среде.

Эта повесть или рассказ, или монолог — называйте, как хотите — не из тех, что дружелюбна к читателю. Она не отворит мягко ворота, окунув вас в пучины некой истории. Она, скорее, грубо толкнет вас в озеро и будет наблюдать, как вы плещетесь в попытках спастись. Перед глазами — пузырьки воздуха, что вы выдыхаете, принимая в легкие все новые и новые порции воды, увлекающей на дно…

Футуристические рассказы. «Безголосые» — оцифровка сознания. «Showmylife» — симулятор жизни. «Рубашка» — будущее одежды. «Красное внутри» — половой каннибализм. «Кабульский отель» — трехдневное путешествие непутевого фотографа в Кабул.