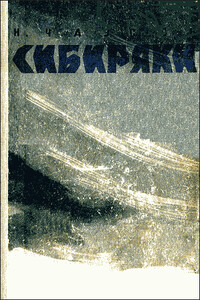За правое дело - [7]
Обрадованный благополучному возвращению отца, Денис жадно ловил каждое его слово и все больше ежился под его беглыми взглядами. Что же это получается? Значит, когда отец защищал революцию от контры, вооруженных пулеметами юнкеров, — он, Денис, провожал домой господскую девчонку, таскал ее на своей спине через лужи, а за это жрал жирные пирожки и получал книжки.
Значит, и отец Верочки, и ее злой брат — тоже гадюки? А сама Верочка?..
— Не бойсь, не один иду, — продолжал уже ласковее отец, дохлебывая из миски. — Из барака, почитай, все мужики тоже. Чем так пропадать, так уж за первое дело… Ну, чего рты раззявили? — весело подмигнул он притихшим, глядя на плачущую мать, ребятишкам. — За ваше ведь счастье иду, за вашу светлую путь в жизни!..
…Через час отец ушел в неуспевшей высохнуть телогрейке, на прощание перецеловав детей, снова пустившую слезу Степаниду.
Ушли в ночь, дождливую, стылую, и другие отцы семейств, оставив в бараке одних жен, стариков да маленьких ребятишек.
Денису в эту ночь снился белый господский дом с зеркальными окнами, Верочка, добрая тетка Марфа и змеи: большие, толстые, почему-то с человечьими головами…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Консерватория, где размещался штаб революции, гудела, как расстроенный орган — во все трубы. Люди в шинелях и телогрейках, рабочих кожанках и бушлатах забили фойе, лестницы, служебные помещения и классы, запрудили улицы, небольшую, у Липок, площадь. А ночами, сырыми, холодными, на улице горели костры, двигались, уходя в ночь, солдатские и красногвардейские отряды.
Суетно и в самом сердце штаба, в тесном, прокуренном кабинете ректора. Без конца хлопает дверь, трещат телефоны, заходят и выходят вооруженные и безоружные люди.
Уже третий день, как в этих стенах была провозглашена социалистическая революция и объявлена власть Советов, но в городе все еще царят двоевластие и неразбериха. Дума упорно не желает сложить оружие, а переметнувшиеся к ней меньшевики и эсеры помогают ей выиграть время, мутят народ. Дума стянула вокруг себя юнкеров, вооружила даже мальчиков-гимназистов, обставилась баррикадами, но выступить против большевиков не решалась: на защиту Совета встали рабочегвардейские отряды, почти все солдаты и младшие чины гарнизона. Воззвания: «Вся власть Советам!» и «Долой большевиков!», «Да здравствует революция!» и «Все на защиту Временного правительства!» — запестрели там и тут, лихорадя без того взвинченный город.
Двадцать восьмого октября Совет снова принимал делегацию думы. На этот раз офицеров делегации сопровождал усиленный конвой рабочегвардейцев: солдаты и рабочие, третьи сутки томившиеся под дождливым небом и ветром, полуголодные и простуженные, обозленные бесконечным обманом думы, могли раздавить парламентеров.
Председатель Совета Антонов, узкоплечий поджарый человек выше среднего роста, с выбритым до синевы лицом аскета, измученным в бессонных ночах, встретил делегатов почти враждебно:
— Ну, с чем на этот раз пожаловали, господа?
Широкая, самодовольная, изрытая оспой физиономия главы делегации расплылась в наигранной учтивой улыбке.
— Насколько мне помнится, вы нас прежде господами не называли. Позволите? — И сам выбрал свободный стул, сел ближе к Антонову.
Пенсне с острого носа Антонова сдернулось, завертелось в платке.
— Наши товарищи нас не предают. Вы, меньшевики, нашли других товарищей — кадетов. А ведь кадеты — господа. Стало быть, гусь свинье не товарищ.
Щербатый выпрямился, в упор посмотрел в подслеповатые карие глаза председателя Совета.
— Мы пришли к вам выслушивать не оскорбления, а предложения. И, кстати, мы не за кадетов, а за справедливость. Как и ваш товарищ, большевик Соколов. — Щербатый кивнул на сидевшего рядом с ним тощего подпоручика. И все, словно только сейчас заметив его присутствие, посмотрели на подпоручика.
— Ну вот что, господа, — нарушил недолгое молчание Антонов. — Мы много раз давали вам возможность обдумать, обсудить наши предложения. Вы ждете подавления революции в Петрограде? Этого не допустят. Ждете казачий корпус из Татищева? Не дождетесь. Мы смогли бы сломить вас силой… еще вчера… позавчера… Мы не хотим кровопролития. Но если вы и сегодня…
— Да что с ними разговаривать! — вмешался товарищ председателя Совета Васильев-Южин. — Мусолим, мусолим…
— Не горячись, Михаил Иванович. Итак, господа, вот наши условия: немедленный роспуск вашего так называемого «Комитета спасения революции», отмена всех распоряжений думы и непринятия деятельности Совета…
— Но где же ваша демократия, товарищи?.. или как вас прикажете величать… Революция в феврале не распускала вашей партии и не запрещала деятельности большевиков… кроме посягательства на нашу… между прочим, народную власть и нашу… тоже прошу учесть, народную демократию…
— Болтовня! — снова закипел Южин. — Нет, товарищ Антонов, мы дождемся, когда народу надоест эта свистопляска и он сам, без нас, разоружит юнкеров и разгромит думу. Но тогда будет больше крови! Мы либеральничаем с душителями революции…
Васильев-Южин уже не говорил — выкрикивал фразы, требуя немедленного выступления, разоружения юнкеров и ареста всех членов думы. Антонов терпеливо, не перебивая, ждал, когда спадет его вспышка, исподволь наблюдая за парламентерами: пусть еще раз убедятся, что играют с огнем. Те же, в свою очередь, довольно спокойно оглядывали членов Совета: пространная, излишне пылкая речь товарища председателя Васильева-Южина их явно удовлетворяла. Речь эта напрашивалась на споры, а споры должны затянуть переговоры. Но Южин так же неожиданно оборвал речь, как и начал. Щербатый удивленно взглянул на Южина, ухмыльнулся.
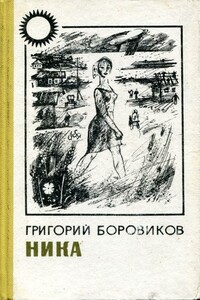
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Старейший саратовский писатель Григорий Боровиков известен читателю по многим вышедшим книгам. Его рассказы постоянно печатаются в периодической печати. К 70-летню писателя выходит новый сборник «В хвойном море», в который войдут рассказы «Макар, телячий сторож», «Курган», «Киря», «На болотах» и другие. Рассказы Г. Боровикова отличает доброта и теплый юмор.
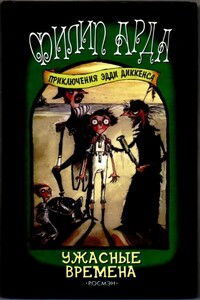
Путешествие Эдди и его компаньонки в Америку закончилось неудачно, зато сопровождалось несусветными событиями и невероятными встречами. «Ужасные времена» — последняя книга трилогии об Эдди Диккенсе.

Еще нет солнца. Над морем только ясная полоса. В это время — заметили? — горизонт близко — камнем добросишь. И все предметы вокруг стоят тесно.Солнце над морем поднимается, розовое и не жаркое. Все зримое — заметили? — слегка отодвинется, но все еще кажется близким, без труда достижимым.Утренний берег — детство.Но время двигает солнце к зениту. И если заметили, до солнца 149,5 миллионов километров…
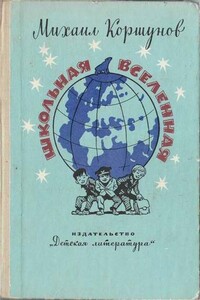
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта повесть о мальчиках и бумажных змеях и о приключениях, которые с ними происходят. Здесь рассказывается о детстве одного лётчика-конструктора, которое протекает в дореволюционное время; о том, как в мальчике просыпается «чувство воздуха», о том, как от змеев он стремится к воздушному полёту. Действие повести происходит в годы зарождения отечественной авиации, и юные герои её, запускающие пока в небо змея, мечтают о лётных подвигах. Повесть овеяна чувством романтики, мечты, стремлением верно служить своей родине.

«Подарок с неба» – трогательно-добрая история о жизни, пути, о выборе ценностей, о том, чему нужно учить сначала себя, потом детей. … С неба прилетел ангел и взял мою душу. Он отнес меня прямо к Богу и тот, усадив меня на колени, сказал: «Это еще не конец истории, и ты в ней сыграешь решающую роль». Он вновь отдал меня ангелу и тот спустил меня на землю, в огромный город, где я встретил тебя. И что мне теперь с тобой делать? И какую решающую роль я должен сыграть? Бог так мне и не сказал. Для детей 5-12 лет.