За неимением гербовой печати - [97]
Когда смерклось, я оделся и вышел на улицу. Город был полон оживленного внутреннего движения и голосов, которые, как ни прислушивался, бредя наугад, не мог разобрать. Около спортзала «Спартак», помещавшегося в старой церкви, толпились девушки и парни, надеясь проникнуть на танцы, которые тут устраивались по праздникам. Музыка, звучащая за узкими стрельчатыми окнами, еще какое-то время следовала за мной, а потом отстала, словно поняв, что сегодня нам не по пути. Откровенно говоря, я и сам не знал, куда иду. Шел себе и шел, влекомый неясной потребностью достичь недостижимого.
И когда очутился у Люсиного дома, понял, что казавшееся неясным и недостижимым, вполне конкретно. Оно и есть этот дом и девушка, живущая в нем. Впрочем, достижимо только первое. Я стоял напротив, невидимый в тени платана, на котором едва забрезжила зелень. Не хотелось, чтобы кто-либо из знакомых, даже Славик, увидел меня здесь, напротив Люсиного дома.
Когда ожидаешь человека, которого хочешь увидеть, а он не является к назначенному времени, ты исподволь начинаешь прибавлять минуты, которые еще сможешь себе отпустить на ожидание. Они тают стремительно, и ты назначаешь новые минуты, и так до тех пор, пока не иссякнет надежда.
У меня не было никакой надежды. Мне просто хотелось находиться около нее. Но в этом я бы не посмел признаться никому. А того, что предпринял вслед за тем, не мог бы объяснить и себе самому.
Стремительно перейдя через дорогу, я вошел в калитку Люсиного дома. Я творил, бог знает что, влекомый какой-то властной силой. Низкие, у самой земли, окна в знакомом проулочке между забором и стеной дома светились. Забыв о том, что в любую минуту могу быть постыдно обнаружен, что поступать, как поступаю, нехорошо, забыв обо всем на свете, я заглянул в Люсино окно.
Она была в комнате. Тихая, печальная, как мне показалось, сидела у стола. То ли читала, то ли писала, я не мог разобрать в первую минуту, а потом увидел, что она штопает свою синюю кофточку, ту самую, в которой была так хороша в свой последний приход ко мне.
Кто-то окликнул Люсю из соседней комнаты, она встала и направилась туда. Я едва успел отпрянуть от окна к забору. Если бы она глянула в мою сторону, она бы непременно увидела меня. Что делалось в соседней комнате, я не знал, потому что окно было зашторено. Но, пока она там находилась, я снова подобрался к окну Люсиной комнаты и, обнаружив, что форточка приоткрыта, быстро нацарапал на клочке бумаги, оказавшемся у меня в кармане, единственное слово «помню» и просунул в форточку. Бумажка упала на пол, и в это время вернулась Люся. В смятении, словно совершил нечто преступное, словно вор, которого вот-вот схватят за руку, я ринулся прочь.
Однако в следующие дни повторялось то же. Ноги сами собой приводили меня на знакомую улицу. Я бродил вокруг Люсиного дома, а потом, улучив момент, подходил к окну, бросал записку с одним-единственным словом «помню». Это не было озорством, не было игрой в таинственность. Я никого не думал поражать или заинтриговывать. Да и вообще, если бы меня спросили, для чего я это делаю, я бы не смог ответить, потому что и в самом деле не преследовал никакой видимой цели. Просто бросив однажды записку, я поддался искушению повторять это вновь и вновь, как некую форму нашего незримого общения. Я не сомневался, что она знает, кому принадлежат записки, и в самообольщении предполагал, что она с радостью произносит мое неизменное «помню», которое, словно эхо, возвращается ко мне, как бы замыкая круг нашей тайной связи.
Сколько продолжались мои ежевечерние блуждания вокруг Люсиного дома, трудно сказать, как трудно вспомнить поступки, имеющие подсознательную природу. Но однажды, глянув в окно, я увидел, как она плачет и в ожесточении рвет на мелкие кусочки мое очередное послание. Я словно очнулся, освободившись враз от дурмана, владевшего мной все эти дни. Меня охватила отчаянная жалость к ней и страх безвозвратно убить то, что еще оставалось в наших душах. Наступало тревожное осознание вины во всем, что мог причинить ей своими выходками. Я еще не сознавал в полной мере, чем это обернется.
В конце мая получил отпуск на заводе, для сдачи экзаменов. Готовился дома и в читальном зале при библиотеке имени Крупской. Учебников в ту пору не хватало, и мы то брали друг у друга на время, то шли заниматься в библиотеку. Напротив за соседним столом увидел Катюшу. Поглощенная чтением, она не замечала меня. Едва уловимый шорох страниц стойко царил в зале.
Я обрадовался Катюше, как радовался всем, кто так или иначе связывал меня с Люсей.
Когда Катюша наконец оторвалась от чтения и, щуря глаза, посмотрела на меня, я не встретил свойственной ей приветливости. Наоборот, во взгляде ее сквозило откровенное недружелюбие. Я удивился, гадая, что могло стрястись. А Катюша отвернулась, едва удостоив меня кивка головы, и снова принялась за чтение.
Выходя из библиотеки, то ли случайно, то ли вполне сознательно мы оказались рядом. Вероятно, я не мог уйти, не узнав причины Катиной отчужденности. А в ее добром открытом характере не было места для собирания впрок и утаивания внезапно возникших обид.
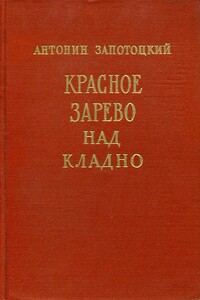
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
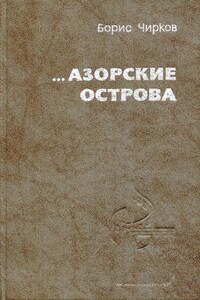
Народный артист СССР Герой Социалистического Труда Борис Петрович Чирков рассказывает о детстве в провинциальном Нолинске, о годах учебы в Ленинградском институте сценических искусств, о своем актерском становлении и совершенствовании, о многочисленных и разнообразных ролях, сыгранных на театральной сцене и в кино. Интересные главы посвящены истории создания таких фильмов, как трилогия о Максиме и «Учитель». За рассказами об актерской и общественной деятельности автора, за его размышлениями о жизни, об искусстве проступают характерные черты времени — от дореволюционных лет до наших дней. Первое издание было тепло встречено читателями и прессой.
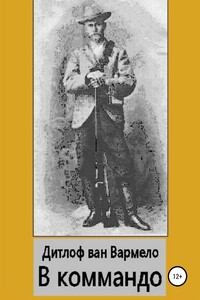
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.