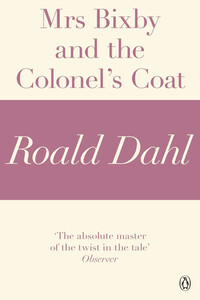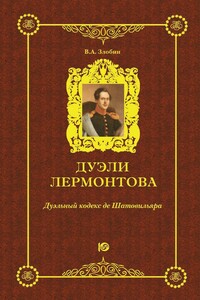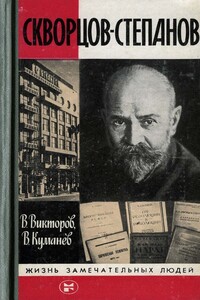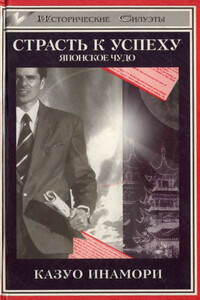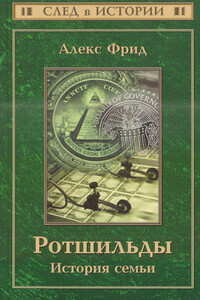Желтый почтовый конверт потерся и поблек. На конверте размашистым, торопливым почерком написано:
«Командиру эскадрильи 2-го Севастопольского авиаполка капитану тов. Басову».
Красные чернила расплылись на плохой бумаге. В правом углу жирная клякса. Автор письма очень торопился. Но письмо не дошло до адресата. Так получилось. И вот уже более четверти века оно лежит у меня в столе. На клочке бумаги те же красные чернила, тот же торопливый почерк:
тов. Басов!
Прошу Вас отправить мальчика до Казани самолетом. Этот мальчик был освобожден Красной Армией. Мать его и сестру немцы убили, а ему удалось бежать.
С приветом Артюхин.
Кроме записки Артюхина в конверте и другие бумаги. Я положил их туда много лет назад, и все они имеют отношение к последней неделе июля 1944 года. Время от времени я вынимаю из стола конверт и, вытряхнув на стол его содержимое, рассматриваю, вспоминаю.
Вот первый в моей жизни документ. Каллиграфическим почерком выведено:
Удостоверение.
Выдано настоящее штабом партизанской бригады гр-ну Леонову Р. А. 1930 года рождения в том, что он находился на территории временно оккупированной немцами, где расстреляны его мать и сестра, и в настоящее время едет разыскивать своего отца.
Просьба ко всем воинским частям и КПП оказывать содействие мальчику в его передвижении.
За неимением гербовой печати изложенное удостоверяем только подписями.
Командир бригады
Комиссар бригады
Начальник штаба
Удостоверение написано на обеих сторонах листа и скорей напоминает рекомендательное письмо, чем официальный документ.
Тут же в конверте на оторванном впопыхах краешке газеты едва различимый адрес п/п 70501 Баев М. В. и воинский билет до Казани. Сквозь мелкие дырочки компостера я вижу далекий военный июль сорок четвертого, еще потрясающий своими потерями, но уже исполненный радости освобождения и почти невероятной в эту пору человеческой доброты.
В погребке душно пахнет прелым картофелем, цвелью и сыростью. Вокруг погребка в лесу и на выгоне рвутся мины. Они ложатся то ближе, то дальше, иногда совсем рядом. И тогда с потолка сыплется земля и труха от полусгнивших балок. Я считаю разрывы: девять, пятнадцать, двадцать… Сбиваюсь со счета. Слышно, как мина приближается, в зависимости от расстояния — это или свистящее завывание, или хлюпающий звук, словно кто-то идет по болоту, или нарастающий шорох, похожий на шум листвы при сильном ветре…
Мы набрели на этот погребок Мохова хутора еще вчера вечером, когда немцы начали отступать из Каменки. Чтобы нас не угнали на Запад, решили с Марианом идти к фронту. Где фронт, не знали. Пошли наугад в ту сторону, откуда тянулись немецкие обозы. С опушки леса хорошо была видна дорога: огромные крытые дизели, санитарные фургоны, камуфлированные генеральские «мерседесы», серые от пыли мотоциклы и солдаты, потные, грязные, ошалелые.
— Вот и дождались, — сказал я Мариану, — бегут немцы.
Мариан растерянно посмотрел в сторону дороги. Кажется, он не понимал, что происходит.
После того как на прошлой неделе гестаповцы арестовали Ядвигу, он совсем потерялся. К тому же он никогда еще не был предоставлен самому себе. Я младше Мариана на полтора года и на голову ниже ростом, но мне уже кое-что пришлось испытать: из-под расстрела бежать, по сожженному Полесью скитаться, пока Ядвига не приютила у себя. И вот сейчас, когда Ядвиги нет, разве я могу оставить Мариана? Надо думать и за себя, и за него.
В трех километрах от городка дорога поворачивает круто вправо, канонада нарастает слева. Пошли ей навстречу. Мариан сосредоточенно посапывает рядом, то и дело оглядываясь назад, как бы стараясь запомнить дорогу.
На закате вышли к реке. Собственно, это даже не река, а довольно широкий ручей с песчаным дном и пологими берегами. Разделись. Вода теплая, прозрачная, у ног на отмели щекотно копошатся стайки мальков.
На противоположном берегу ржаное поле. Сели переобуваться. Волосы у Мариана светлые, золотящиеся, как колосья над нами. На лице еще не просохли водяные брызги.
До чего он красивый парень, Мариан, подумал я, на мгновенье забыв обо всем на свете.
Орудийный гул, приближавшийся к нам, прекратился, и от этого явственным стал стрекот кузнечиков. Пахло сухим зерном, хотелось спать.
Немцев мы заметили с Марианом одновременно. Вытоптав рожь на пригорке, они рыли окопы, устанавливали пулеметы. Двое из них тащили в нашу сторону какой-то ящик. Они совсем рядом, только каски, низко надвинутые на лоб, мешают им увидеть нас.
Не сговариваясь, мы скатываемся к реке и низом бежим по течению. Когда вновь выбрались на берег, поле кончилось. Перед нами молодой ельник. В просветах между деревьями какие-то строения. Так и есть, Мохова яма. Почему ямой называется усадьба крестьянина Мохова — неизвестно. Может, потому, что все это место в низине.
Когда-то мы приезжали сюда с Ядвигой за картошкой. Был полдень, и нас позвали в дом обедать. В горнице собралась вся семья Мохова: два взрослых сына, старуха-мать, сноха.
Осенью сорок второго в перелеске у Моховой ямы фашисты расстреляли семьи советских командиров. Мохова и его сыновей заставили копать яму. Рассказывали, что старик помешался, увидав все это. Проклинал антихриста Гитлера. Кто-то из полицаев ударил старика прикладом и, когда тот повалился на землю, пристрелил в упор.