За неимением гербовой печати - [2]
Сыновья Мохова ушли в старосельские леса партизанить.
Мы разглядываем из прибрежных кустов хутор и не решаемся направиться туда. Ближе всего к нам крытый соломой амбар, или, как называют здесь — клуня, напротив дом и коровник, а сбоку, огороженный колючей проволокой и жердями, выгон. Вокруг ни души. Можно бы перебежать к сараю.
Пока раздумываем, снова вспыхивает стрельба, но не где-то в отдалении, а рядом, в той стороне, где мы напоролись на немцев. У дома, который плохо виден из-за клуни, начинают рваться мины.
Мариан тянет меня за руку.
Сразу за выгоном натыкаемся на погребок. Мы заметили его случайно. Если бы не дверь, сорванная с петель, и не зияющий черный лаз, прошли бы мимо поросшего бурьяном и крапивой бугра. Лестница в погребе почти развалилась, осталось две-три ступеньки.
Мы скатываемся в прохладную темноту, тяжело дыша и страшась неизвестности.
Постепенно глаза привыкают к темноте. Погреб довольно просторный. В углу корзина с полусгнившим картофелем и брюквой, поближе к лазу то ли мешки, то ли рогожи… Мариан сидит на мешках. Я вываливаю из корзины содержимое, переворачиваю ее кверху дном и тоже сажусь. Не знаю, надолго ли, но пока у нас есть пристанище. Судя по всему, мы угодили на самую передовую. Теперь никуда не уйдешь, сиди и жди. Только бы немцы не наскочили.
Ночь тянется бесконечно долго.
Мы перетащили тряпье в дальний угол и устроились там, тесно прижавшись друг к другу. Спали кое-как, урывками, поминутно просыпаясь, тревожно прислушиваясь к происходящему. Ночью стреляли реже. Перед рассветом совсем перестали. Стояла непонятная, настораживающая тишина.
Было сыро и холодно. Сквозь отверстие лаза едва серело небо. У меня затекли ноги, поднявшись, решил выглянуть наверх, но у самой лестницы меня остановил нарастающий свист, резкий и пронзительный. Прежде чем я успел что-либо сообразить, рядом разорвалась мина. Запахло дымом, за ворот посыпалась земля. Мариан проснулся, вскочил на ноги, но тут же снова упал, зажимая уши ладонями.
Не знаю, сколько часов продолжается обстрел. В горле сухо и горько. Невыносимо хочется пить. О еде не думаем. И вообще ни о чем не думаем, думаем только о том, чтобы мина не угодила в наш погреб.
Мариан молится, в промежутках между разрывами я слышу его шепот: «Ойче наш, ктуры есть в небеси…» Мне кажется, что он произносит слова механически, не вдумываясь в их смысл. Вот у Ядвиги все было по-другому. Молясь, она закрывала глаза, словно уходя в себя, и оттуда, из глубины, извлекала гулкие, как эхо, фразы. В каждом слове своя интонация: то кроткая, то торжественная, то наставительная.
— Ты знаешь, Мариан, вот мы вернемся в Каменку, а Ядвига уже дома.
Мариан смотрит на меня, грустно поводя плечами.
— Как знать…
— Ядвига — артистка, она непременно выкрутится.
— Как знать, — опять повторяет Мариан.
Глаза мои настолько привыкли к темноте, что я отлично вижу лицо Мариана. Оно не кажется сейчас таким красивым, как было там, на поле, лоб и щеки перепачканы землей, волосы спутались.
— Помнишь, — продолжаю я, — как Ядвига разыграла спектакль, когда партизаны кокнули рыжего Готлиба и его привезли на подводе? Даже прослезилась на виду у всех. А вечером шла к партизанам на связь.
— Почему она там не осталась тогда? — с сожалением говорит Мариан.
— Это ты прав. И все-таки Ядвига отличная артистка, она обязательно выкрутится.
— Как знать, — в который раз говорит Мариан.
По правде, я тоже не совсем верю, что все будет так, как говорю. Но мне хочется, чтобы у Мариана и у меня была надежда.
Отвлекшись разговорами, не замечаем сразу, что разрывы вокруг прекратились и отдаляются куда-то в сторону.
— До чего пить охота, — говорит Мариан.
— Ага, и мне, — соглашаюсь я, — полведра бы выпил.
В это время в погребке становится совсем темно, как будто надвинулась туча. В квадратном проеме возникает человек. Немцы, бьется мысль.
Мы забиваемся в дальний угол, прирастаем к стене. Вот сейчас полоснут из автомата или гранату швырнут, это в их духе. И вдруг неожиданней и острей, чем автоматная очередь, — русская речь:
— Живой кто есть?
Есть, есть, охота крикнуть мне, но звук замирает в горле.
— Полицаи, — шепчет Мариан.
Я тычу Мариана кулаком в бок, а сам думаю о том же. Наша возня привлекает человека:
— Ну, кто еще там, почему не откликаетесь? — и куда-то в сторону, — Степанов, фонарик подай-ка сюда.
Большой, грузный, он стоит перед нами, пригнувшись, чтобы не задеть низкий свод. На нем плащ-накидка, из-под которой выглядывает автомат. Тень от капюшона скрывает лицо, выделяются только растопыренные брови. Мы не можем понять, кто он?..
И тут полную ясность вносит Степанов, это, по-видимому, он, так как в руках у него фонарик, о котором спрашивал человек в накидке. Степанов. — молодой, щуплый, едва достает до плеча своему товарищу. У него облупившийся от солнца нос, белесые ресницы и потные, выбившиеся из-под пилотки волосы. Пилотка съехала набок, но я отчетливо вижу на ней пятиконечную красную звездочку, нашу звездочку! Я не могу оторваться от нее.
Потом Степанов снимает пилотку, вытирает ею взмокшее лицо.
Прежде чем нас успевают о чем-либо спросить, я бросаюсь к Степанову и к тому, другому, в накидке, и, захлебываясь от счастья, прижимаюсь к ним, сейчас самым дорогим на свете людям. На какое-то мгновенье меня озадачивают погоны на плечах Степанова, да и ворот гимнастерки не такой, как перед войной. Но красная звездочка, другой такой нет в целом мире, она не может обмануть.
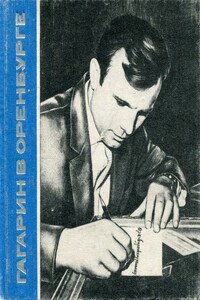
В книге рассказывается об оренбургском периоде жизни первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина, о его курсантских годах, о дружеских связях с оренбуржцами и встречах в городе, «давшем ему крылья». Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
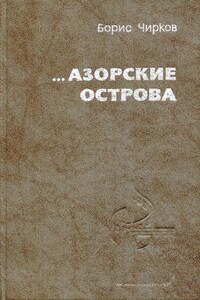
Народный артист СССР Герой Социалистического Труда Борис Петрович Чирков рассказывает о детстве в провинциальном Нолинске, о годах учебы в Ленинградском институте сценических искусств, о своем актерском становлении и совершенствовании, о многочисленных и разнообразных ролях, сыгранных на театральной сцене и в кино. Интересные главы посвящены истории создания таких фильмов, как трилогия о Максиме и «Учитель». За рассказами об актерской и общественной деятельности автора, за его размышлениями о жизни, об искусстве проступают характерные черты времени — от дореволюционных лет до наших дней. Первое издание было тепло встречено читателями и прессой.
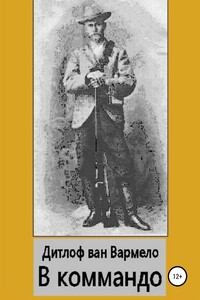
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.