За неимением гербовой печати - [3]
Солдат смущает бурное проявление чувств с моей стороны. Степанов переминается с ноги на ногу, шмыгает носом и, упирая на букву «о», говорит:
— Огольцы, ну и огольцы…
Это ребячливое «огольцы» и застенчивая улыбка на лице Степанова делают его совсем малышком, почти нашим сверстником.
Высокий отбрасывает капюшон, открывая широкоскулое лицо, огромный лоб с глубокими залысинами. В потные морщины на лбу и на шее въелась пыль.
Последний раз я видел наших солдат в первые часы войны. На их лицах еще не было усталости. Была тревожная растерянность. Полураздетые, они окапывались на улице Мицкевича. И вот, спустя три года, я вижу их вновь. Они совсем не такие, как тогда. Они усталые, откровенно усталые, но в каждом движении спокойная уверенность, свойственная только бывалым людям.
Увидав перевернутую корзину, пожилой присаживается.
— Вы что же, сами здесь? — спрашивает он. — А родители где?
— Там, — говорит Мариан, указывая неопределенно в пространство.
— Ага, ну-ну, — словно поняв, что значит там, соглашается солдат.
Кажется, его уже ничто не может удивить на земле, только что освобожденной от фашистов. Дети здесь, а родители где-то там: в плену, в братской могиле, за линией фронта. Сейчас война, и это вполне уместно «где-то там».
— У меня маму убили, а отец пограничник, только я не знаю, где он, — выкладываю я.
— Так вы не братья, — присматривается к нам солдат.
— Теперь братья. Так сказала Ядвига.
— Кто такая Ядвига?
— Ядвига — его мать, — указываю я на Мариана, — ее гестаповцы арестовали, и мы не знаем, где она сейчас.
— Семеныч! — слышится снаружи.
Это вернулся отлучавшийся Степанов.
— Надо двигать, — говорит Семеныч.
Мне становится страшно, что они сейчас уйдут и мы вновь останемся одни.
Солдат шуршит плащ-палаткой, поправляет автомат.
У самого лаза я останавливаю Семеныча.
— А как же мы?
Поначалу он не понимает моего вопроса.
— Нас вы снова оставляете, — чуть не плача говорю я, — мы пойдем с вами. Мы не хотим снова попасть к немцам.
— Вот оно что? — улыбается Семеныч. — Но они уже того, подмазали отсюда.
Я, привыкший к постоянным сложностям, продолжаю твердить:
— Мы пойдем с вами, мы все равно пойдем с вами.
— Давайте так договоримся, хлопцы, — серьезно и доверительно заключает Семеныч, — два часа вы сидите в погребе. Через два часа подойдут наши. Мы это быстро.
— Значит, вы разведчики, — вырывается у меня.
Семеныч ничего не отвечает, только подмигивает нам и деловито карабкается по разбитой лестнице наверх.
После ухода солдат мы с Марианом молчим, каждый думает о своем. Три года мы ожидали наших, и я никогда не думал, что все это произойдет так буднично и торопливо в темном, сыром погребе.
Прошло не более двух минут, как ушли разведчики, а перед нами вновь стоит Степанов, тяжело дыша, шмыгая облупленным носом, он протягивает нам ломоть хлеба и бурый, от налипшей на него пыли, кусок сахара.
— Нате, огольцы, поправляйтесь!
Когда выбираемся из погребка, солнце, ослепительно яркое, еще не поднявшееся в зенит, светит прямо в глаза, почти валит нас с ног. Недавно прошел дождь, пахнет сырой землей, мятой зеленью и древесиной.
Выгон сплошь изрыт корявыми бесформенными воронками минных разрывов. Лес вокруг ободран и изломан, словно кто-то, огромный и разъяренный, метался по нему. С клуни снесло угол крыши. Солома, поросшая зеленоватым мхом, растрепанными снопиками разбросана по земле. Между клуней и домом колодец, он виден издали круто вздернутой журавлиной шеей, но, проклятье, напиться мы не можем: воду нечем зачерпнуть. Деревянная бадейка плавает на дне колодца. То ли кто-то сознательно сбросил ее туда, то ли перебило проволоку, которой она была прикручена.
— Может, найдем что-нибудь в клуне, — говорит Мариан. Он уходит и долго роется в полумраке среди хозяйского хлама и мышиного помета.
Я брожу вокруг дома, заглядываю в щели заколоченных окон. Кое-где выбиты стекла, изнутри тянет затхлостью брошенного жилья. В комнатах пусто, только в одной, самой просторной — стол, за которым обедали, когда приезжали с матерью Мариана.
О Ядвиге я вспоминаю так же часто, как о маме, которую расстреляли осенью сорок второго. Мне удалось бежать, и там, на размытом дождем проселке, затравленно оглядываясь по сторонам, все понять своим уж не детским умом. А потом два года жизни у Ядвиги, два года участия в двойной игре, которую вела Ядвига, служа у немецкого чиновника и помогая партизанам. Два года непрерывного риска. Надежда, ожидание своих стали самым главным чувством, поглотившим личное горе многих людей.
Теперь же, избавленный от необходимости куда-то бежать, прятаться, я, может впервые за все это время, так отчетливо представил необъятность постигшей меня беды. Убита мама, сестра, бабушка, отец ушел с первыми выстрелами, и я его больше не видел. У меня никого нет — эта мысль возникла неожиданно и страшно. Из взрослого, самостоятельного человека вновь превратился в мальчишку.
Радость ожидания и надежды притупляли горе, а теперь ожившее горе притупило саму радость освобождения.
Вернулся Мариан. Он притащил из клуни закопченный чугунный котелок, и мы приладили его к колодезному шесту. Вода оказалась чистой, если не считать соломы и пепла, занесенных в колодец с развороченной кровли.
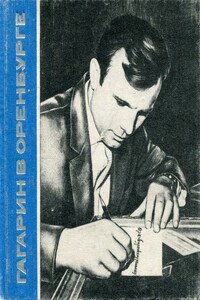
В книге рассказывается об оренбургском периоде жизни первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина, о его курсантских годах, о дружеских связях с оренбуржцами и встречах в городе, «давшем ему крылья». Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение. Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа – интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия.
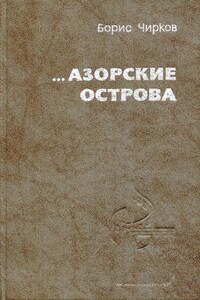
Народный артист СССР Герой Социалистического Труда Борис Петрович Чирков рассказывает о детстве в провинциальном Нолинске, о годах учебы в Ленинградском институте сценических искусств, о своем актерском становлении и совершенствовании, о многочисленных и разнообразных ролях, сыгранных на театральной сцене и в кино. Интересные главы посвящены истории создания таких фильмов, как трилогия о Максиме и «Учитель». За рассказами об актерской и общественной деятельности автора, за его размышлениями о жизни, об искусстве проступают характерные черты времени — от дореволюционных лет до наших дней. Первое издание было тепло встречено читателями и прессой.
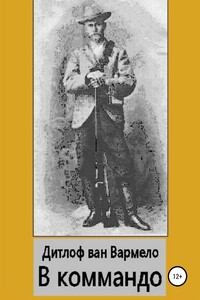
Дневник участника англо-бурской войны, показывающий ее изнанку – трудности, лишения, страдания народа.

Саладин (1138–1193) — едва ли не самый известный и почитаемый персонаж мусульманского мира, фигура культовая и легендарная. Он появился на исторической сцене в критический момент для Ближнего Востока, когда за владычество боролись мусульмане и пришлые христиане — крестоносцы из Западной Европы. Мелкий курдский военачальник, Саладин стал правителем Египта, Дамаска, Мосула, Алеппо, объединив под своей властью раздробленный до того времени исламский Ближний Восток. Он начал войну против крестоносцев, отбил у них священный город Иерусалим и с доблестью сражался с отважнейшим рыцарем Запада — английским королем Ричардом Львиное Сердце.

Автору этих воспоминаний пришлось многое пережить — ее отца, заместителя наркома пищевой промышленности, расстреляли в 1938-м, мать сослали, братья погибли на фронте… В 1978 году она встретилась с писателем Анатолием Рыбаковым. В книге рассказывается о том, как они вместе работали над его романами, как в течение 21 года издательства не решались опубликовать его «Детей Арбата», как приняли потом эту книгу во всем мире.