Я, Дрейфус - [15]
То Рождество было последним в домике при школе. А в конце учебного года родители вышли на пенсию и купили небольшой коттедж неподалеку. Уговорить их перебраться в Лондон не удалось. Они, хоть и родились в столице, стали настоящими деревенскими жителями. Возможно, причиной было их трагическое детство, но в большие города их совсем не тянуло.
Я снял квартиру в Хаммерсмите, рядом со школой. Мэтью жил довольно близко, в Ноттинг-Хилле. Они с Сьюзен готовились к свадьбе. В ту пору мы часто виделись, и однажды вечером я у них в квартире познакомился с Люси, лучшей подругой Сьюзен. Через несколько недель мы уже были счастливой четверкой. Однажды я решился пригласить Люси на свидание и еще через несколько недель понял, что люблю ее. Я остерегался просить ее руки — боялся отказа. Это она, в високосный 1980 год, сама сделала мне предложение, за что я буду благодарен ей всю жизнь.
Новая школа пришлась мне по вкусу. Я собирался поработать там некоторое время, чтобы набраться административного опыта. Я был честолюбив. Должен в этом со стыдом признаться. Я мечтал стать директором. Но не просто директором. Я хотел управлять лучшей частной школой Англии.
В 1981 году мы с Люси поженились и поселились в большой квартире в Хаммерсмите. Мэтью и Сьюзен тоже поженились и уже ждали первого ребенка. Родители были счастливы на пенсии, у всех Дрейфусов все шло прекрасно. Теперь, вспоминая эти годы, я с трудом верю, что было время в нашей жизни, когда несчастья обходили нас стороной. Этих дней не вернуть, и мне нужно стараться не думать о будущем.
Но я о нем все равно думаю. Ничего не могу с собой поделать. Там, за тюремными стенами, готовятся к апелляции. Но на нее не подать без новых доказательств. Я знаю, Мэтью постоянно собирает подписи под заявлением о судебной ошибке. Бедный Мэтью! Только этим он и занят. Потому что работы у него нет. Вскоре после моего ареста его уволили по сокращению штатов. Я погубил всю свою семью. Нет! Я не должен так думать. Потому что тогда я снова поверю в свою виновность. Это они нас погубили. Те, кто жаждал найти козла отпущения. Нас погубили их зависть и страх. Я к этому непричастен. Меня так и подмывает назвать имя человека, который меня затравил. Устроил на меня погоню, преследовал, а когда я совсем обессилел, загнал меня. Сейчас я закрою глаза и напишу его имя. Эклз. Марк Эклз.
Мне что-то не по себе. Ощущение, будто его имя застряло у меня в глотке. Нужно отдохнуть. Писательство плохо на меня действует. Однако я уже не могу не писать. Интересно, у всех писателей такое бывает? Я про тех, кто пишет исповеди. Только ни один из них не носит имени Дрейфус. Наверняка у каждого из них бывают моменты, когда он чувствует себя Дрейфусом, когда понимает, что к нему были чудовищно несправедливы. Откладывает ли он тогда перо, как это делаю я, думает ли, откуда придет следующая фраза и придет ли вообще? В такие мгновения я вспоминаю Люси и детей. Они помогут мне найти слова, которые следует написать, они подскажут, как это следует написать, потому что без слов у меня нет будущего.
Я писал почти весь день — за исключением короткого перерыва на зарядку. Я даже не взглянул на газету, которую сегодня утром передал мне начальник тюрьмы. Сейчас лягу на койку и прогляжу заголовки. Только заголовки. Так я буду хоть немного в курсе. Читать подробности и комментарии сейчас свыше моих сил.
В тот же день в Суррее Мэтью просматривал те же заголовки. Этим же занимался Сэм в Лондоне. И вот что они все прочитали:
МЭТЬЮ ДРЕЙФУС, НЕ ВЫНЕСЯ ПОЗОРА,
БЕЖИТ ИЗ ЛОНДОНА.
БРАТ СТАВИТ КРЕСТ НА БРАТЕ.
Мэтью, побелев от ярости, собрал вещи и поспешил назад в Лондон. Сэм Темпл просто уронил голову на руки.
Альфред Дрейфус снова взялся за перо.
Это ложь. Кругом ложь. Бедный Мэтью. Он никогда меня не оставит. Ему просто надо было передохнуть. Неужели это никогда не прекратится? Надуманные разоблачения, фальшивые новости, грязные намеки. Они так и будут меня травить, а когда я умру, навесят на моих детей позорный, по их мнению, ярлык «Дрейфус»? Но нет, я не должен предаваться таким мыслям. Надо вернуться к Хаммерсмиту, к дням благополучия и счастья.
Мне нравилось преподавать. Особенно поэзию. Оказалось, стихи действуют даже на самых неуправляемых учеников, задир, хулиганов, неподдающихся. Они учили их наизусть, а потом декламировали с такой гордостью, словно сами их и сочинили. Ах, если бы математику можно было рифмовать. Я предложил вести после уроков драмкружок, ожидая, что откликнутся немногие, но энтузиастов нашлось более чем достаточно, и со временем их даже Шекспир не пугал. Я ждал каждого нового школьного дня, мне нравилось смотреть, как загорается огонек любопытства в глазах очередного проказника.
Когда я проработал в Хаммерсмите пять лет, директор засобирался на пенсию. Я страстно мечтал занять его место. Я чувствовал, что эта школа — моя. Но неприятное ощущение после провала в Бристоле оставалось. Мне тогда помешали не возраст, не послужной список, не недостаток опыта. Я подозревал причину, которую не хотел даже признать — так мне противно было: во главе английской гимназии с многолетними традициями никогда не поставят еврея. Но я никогда не выставлял напоказ свою веру. Участвовал в молебнах вместе со всеми. Даже колени при необходимости преклонял. Ходил с непокрытой головой и — а это уж и вовсе богохульство — сотни раз произносил «Иисус». Я бы мог обдурить даже еврейского бога. Но почему-то меня, видимо, подозревали. Возможно, чуяли во мне чужака. Другой причины тому, что мне не дали стать директором в Бристоле, я не находил. Я решил, что не дам подобному повториться, и поэтому прибегнул к способу, за который мне так стыдно, что даже писать об этом тяжело. Если эти слова будут когда-нибудь опубликованы, пусть их наберут самым мелким шрифтом — настолько унизительны для меня эти воспоминания. Я пишу эти строки, и мне хочется закрыть глаза, представить себя невидимым — будто это произошло с кем-то другим, не со мной.
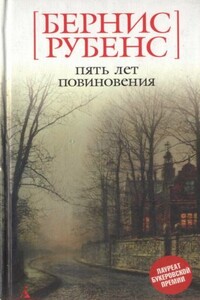
«Пять лет повиновения» (1978) — роман английской писательницы и киносценариста Бернис Рубенс (1928–2004), автора 16 романов, номинанта и лауреата (1970) Букеровской премии. Эта книга — драматичный и одновременно ироничный рассказ о некоей мисс Джин Хоукинс, для которой момент выхода на пенсию совпал с началом экстравагантного любовного романа с собственным дневником, подаренным коллегами по бывшей работе и полностью преобразившим ее дальнейшую жизнь. Повинуясь указаниям, которые сама же записывает в дневник, героиня проходит путь преодоления одиночества, обретения мучительной боли и неведомых прежде наслаждений.
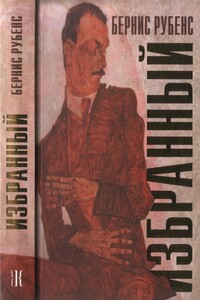
Норман когда-то в прошлом — вундеркинд, родительский любимчик и блестящий адвокат… в сорок один год — наркоман, почти не выходящий из спальни, весь во власти паранойи и галлюцинаций. Психиатрическая лечебница представляется отцу и сестре единственным выходом. Решившись на этот мучительный шаг, они невольно выпускают на свободу мысли и чувства, которые долгие десятилетия все члены семьи скрывали — друг от друга и самих себя. Роман «Избранный» принес Бернис Рубенс Букеровскую премию в 1970 году, но и полвека спустя он не утратил своей остроты.

Две неразлучные подруги Ханна и Эмори знают, что их дома разделяют всего тридцать шесть шагов. Семнадцать лет они все делали вместе: устраивали чаепития для плюшевых игрушек, смотрели на звезды, обсуждали музыку, книжки, мальчишек. Но они не знали, что незадолго до окончания школы их дружбе наступит конец и с этого момента все в жизни пойдет наперекосяк. А тут еще отец Ханны потратил все деньги, отложенные на учебу в университете, и теперь она пропустит целый год. И Эмори ждут нелегкие времена, ведь ей предстоит переехать в другой город и расстаться с парнем.

«Узники Птичьей башни» - роман о той Японии, куда простому туристу не попасть. Один день из жизни большой японской корпорации глазами иностранки. Кира живёт и работает в Японии. Каждое утро она едет в Синдзюку, деловой район Токио, где высятся скалы из стекла и бетона. Кира признаётся, через что ей довелось пройти в Птичьей башне, развенчивает миф за мифом и делится ошеломляющими открытиями. Примет ли героиня чужие правила игры или останется верной себе? Книга содержит нецензурную брань.

А что, если начать с принятия всех возможностей, которые предлагаются? Ведь то место, где ты сейчас, оказалось единственным из всех для получения опыта, чтобы успеть его испытать, как некий знак. А что, если этим знаком окажется эта книга, мой дорогой друг? Возможно, ей суждено стать открытием, позволяющим вспомнить себя таким, каким хотел стать на самом деле. Но помни, мой читатель, она не руководит твоими поступками и убеждённостью, книга просто предлагает свой дар — свободу познания и выбора…

О книге: Грег пытается бороться со своими недостатками, но каждый раз отчаивается и понимает, что он не сможет изменить свою жизнь, что не сможет избавиться от всех проблем, которые внезапно опускаются на его плечи; но как только он встречает Адели, он понимает, что жить — это не так уж и сложно, но прошлое всегда остается с человеком…

В жизни каждого человека встречаются люди, которые навсегда оставляют отпечаток в его памяти своими поступками, и о них хочется написать. Одни становятся друзьями, другие просто знакомыми. А если ты еще половину жизни отдал Флоту, то тебе она будет близка и понятна. Эта книга о таких людях и о забавных случаях, произошедших с ними. Да и сам автор расскажет о своих приключениях. Вся книга основана на реальных событиях. Имена и фамилии действующих героев изменены.

За что вы любите лето? Не спешите, подумайте! Если уже промелькнуло несколько картинок, значит, пора вам познакомиться с данной книгой. Это история одного лета, в которой есть жизнь, есть выбор, соленый воздух, вино и море. Боль отношений, превратившихся в искреннюю неподдельную любовь. Честность людей, не стесняющихся правды собственной жизни. И алкоголь, придающий легкости каждому дню. Хотите знать, как прощаются с летом те, кто безумно влюблен в него?

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Роман «Эсав» ведущего израильского прозаика Меира Шалева — это семейная сага, охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий — драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава). Роман увлекает поразительным сплавом серьезности и насмешливой игры, фантастики и реальности. Широкое эпическое дыхание и магическая атмосфера роднят его с книгами Маркеса, а ироничный интеллектуализм и изощренная сюжетная игра вызывают в памяти набоковский «Дар».

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.