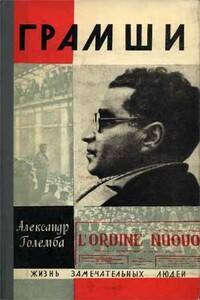Я человек эпохи Миннезанга - [43]
Вот такими старушками обоего пола в литературе и был окружен поэт Големба, но, по счастью, не ими одними.
Он всегда просил, если будет случай его издать, ничего не писать о его биографии. Ну, чтоб вовсе ничего – это чересчур (родился в Харькове, стал врачом, позже понял, что совершенно для этой профессии не годен, и ушел в литературу – вот, пожалуй, и вся биография). Но была и та биография, которая – судьба: это жизнь в поэзии, пусть поэта и не печатают. Иначе не держал бы сейчас читатель в руках книгу, стихи которой копились с начала 1940-х годов, если не раньше, и до конца 1970-х.
«Группой крови» Големба как поэт принадлежал, безусловно, к «южно-русской школе поэзии», отнюдь не из одних одесситов состоявшей: выходцами из Одессы были, разумеется, Эдуард Багрицкий и Семен Липкин, Аркадий Штейнберг и Семен Кирсанов; уроженцами Елисаветграда – Дон-Аминадо, Марк Тарловский и Арсений Тарковский; выходцем из Николаева – Рувим Моран; Михаил Светлов происходил из Екатеринослава; из Херсона и его окрестностей брала начало знаменитая группа футуристов «Гилея» (Алексей Крученых был из Херсона родом), – перечисляю только поэтов и не удаляюсь географически слишком далеко, хотя Керчь (точнее Темрюк) дала нашей поэзии Георгия Шенгели, а если переместиться севернее, на Слобожанщину (прямо на родину Голембы), то счет выдающихся русских (именно русских) поэтов пойдет на десятки. Семен Липкин не зря называл свою родину «русским Провансом», родиной Тартарена и Брассенса (кто из них реальней для читателя – литературный герой из Тараскона или великий бард из Сета?..). Это нынче всё, ясное дело, «заграница», – но и Киплинг родился в Бомбее. Место в поэзии определяется не местом рождения, а – скажем повежливее – «группой крови». Самая одесская из одесских песен, «Бублички», была написана куплетистом Ядовым именно на Сумской в Харькове. Можно бы и дальше список продолжать, да нужды нет.
«Русский Прованс» отличался еще и тем, что его уроженцы неизбежно знали множество языков – без этого физически нельзя было обойтись. Редко кто знает, к примеру, что первые, пусть и не дошедшие до нас рассказы Исаак Бабель написал по-французски. Украинский, польский, немецкий, идиш, а то и греческий и турецкий – всё это так или иначе требовалось в повседневной жизни. В итоге если кого-то из юных литераторов судьба приводила на стезю поэта-переводчика, он выходил на нее во всеоружии. Правда, языком творчества для писателя мог оказаться в итоге отнюдь не русский, а иврит, английский или, что более чем естественно, украинский – знание нескольких языков пригождалось в любом случае.
Тем более что оригинальная поэзия не только никого в СССР не кормила – она и публикации не подлежала, разве что после такого изувечивания записал бы автор, как некогда Корней Чуковский в дневник по поводу выхода очередного тома своего собрания сочинений: «…у меня нет ни охоты, ни возможности взглянуть на это долгожданное исчадие цензурного произвола» . Эту фразу вместе с Чуковским могли бы произнести сотни, если не тысячи русских писателей «советского периода русской истории». Александр Големба всю жизнь писал стихи, даже печатался несколько раз – скажем, в молодежном журнале «Смена» мне попался разворот его стихов в середине 1970-х годов, и я поздравлял поэта. Конечно же, поэт все-таки мечтал о своей книге: это видно по так называемым «паровозам», попадающимся в его архиве, – тем стихам, которые должны были протолкнуть желанную книгу в печать (предупреждаю на всякий случай: не ищите их в нынешней книге, пусть лежат в архиве – ни к чему эту ржавчину оживлять, не от души всё это рождалось)… ну, понятно, так ничего и не дождался. То ли к счастью, то ли к несчастью. Если б его книга все-таки вышла в те времена – боюсь даже представлять, что это была бы за книга.
После его смерти остался архив, причем такой, над которым архивисту впору заплакать. Големба почти не ставил дат под стихами, не группировал их в циклы — словом, не архив, а куча исписанной бумаги, и поди пойми, где стихи законченные, где черновики, где и вовсе наброски. Это сильно затянуло работу над посмертным изданием поэта. Удалось набрать небольшую тетрадку его стихов, они стали изредка попадать в антологии, но это пока и всё. Составителям пришлось чуть ли не десятки раз перекладывать распечатанные страницы из одной стопки в другую, вычленяя темы, выстраивая никогда не существовавшую композицию книги, удалять и «паровозы», и лишние варианты – словом, работы хватило.
А я смотрел на эту работу – и сердце щемило: думаю, что поэт был бы счастлив. Даже не книгой, на которую не давит никакая цензура, а просто той бережностью, которую проявили к его наследию Мая Ахмедовна Мутушева-Големба, вдова поэта, и оба составителя. Поэт знал цену такой работе. Даже вечно унижаемый как переводчик, он сохранял в своих произведениях больше, чем просто человеческое достоинство, – он умел в чудовищных условиях советской цензуры сберечь истинное достоинство большого русского поэта.
…Небольшой, тяжелый (последствия перенесенного туберкулеза), он появлялся в переводных редакциях «Художественной литературы» или «Прогресса» (позднее «Радуги») и с незабываемым, неведомо как приобретенным московским («акающим») акцентом спрашивал: «Скажите, а нет ли на перевод какой-нибудь… лягушатины?» «Лягушатиной» он называл те самые переводы разового употребления, которыми только и мог прожить, прокормить семью. Выражение, кстати, в редакциях прижилось. Им пользовались до конца 1980-х годов, покуда «лягушатина» издавалась. Потом, по счастью, спрос на нее пропал. Даже большие библиотеки списали эту «лягушатину» в макулатуру, и захочешь найти теперь такую книгу – можешь и не найти. Потеря, право, небольшая. Серьезные переводы в основном сохранились, хотя много и не напечатано. За одним, увы, исключением. Судьба нехорошо пошутила: среди работ «человека эпохи миннезанга» именно переводы из миннезингера Вальтера фон дер Фогельвайде (или Фогельвейде, что то же самое) оказались утрачены – их, как водится, не вернула редакция «Литературных памятников». Не зря не вернула: поскольку работа Голембы была признана недостаточно
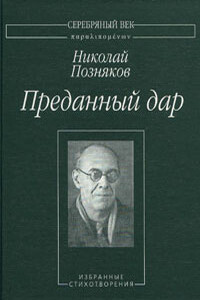
Случайная фраза, сказанная Мариной Цветаевой на допросе во французской полиции в 1937 г., навела исследователей на имя Николая Познякова - поэта, учившегося в московской Поливановской гимназии не только с Сергеем Эфроном, но и с В.Шершеневчем и С.Шервинским. Позняков - участник альманаха "Круговая чаша" (1913); во время войны работал в Красном Кресте; позже попал в эмиграцию, где издал поэтический сборник, а еще... стал советским агентом, фотографом, "парижской явкой". Как Цветаева и Эфрон, в конце 1930-х гг.

В настоящее издание вошли все стихотворения Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1886–1950), хранящиеся в РГАЛИ. Несмотря на несовершенство некоторых произведений, они представляют самостоятельный интерес для читателя. Почти каждое содержит темы и образы, позже развернувшиеся в зрелых прозаических произведениях. К тому же на материале поэзии Кржижановского виден и его основной приём совмещения разнообразных, порой далековатых смыслов культуры. Перед нами не только первые попытки движения в литературе, но и свидетельства серьёзного духовного пути, пройденного автором в начальный, киевский период творчества.

Творчество Григория Яковлевича Ширмана (1898–1956), очень ярко заявившего о себе в середине 1920-х гг., осталось не понято и не принято современниками. Талантливый поэт, мастер сонета, Ширман уже в конце 1920-х выпал из литературы почти на 60 лет. В настоящем издании полностью переиздаются поэтические сборники Ширмана, впервые публикуется анонсировавшийся, но так и не вышедший при жизни автора сборник «Апокрифы», а также избранные стихотворения 1940–1950-х гг.

Русский американский поэт первой волны эмиграции Георгий Голохвастов - автор многочисленных стихотворений (прежде всего - в жанре полусонета) и грандиозной поэмы "Гибель Атлантиды" (1938), изданной в России в 2008 г. В книгу вошли не изданные при жизни автора произведения из его фонда, хранящегося в отделе редких книг и рукописей Библиотеки Колумбийского университета, а также перевод "Слова о полку Игореве" и поэмы Эдны Сент-Винсент Миллей "Возрождение".