Вся проза в одном томе - [172]
VIII
Я никогда не любил смотреть телевизор. Но у мамы он работал почти весь день, если она была дома. Даже когда она была на кухне и не слышала его.
Однажды утром в начале августа я занимался у себя в комнате, когда меня отвлекли до боли знакомые слова, раздававшиеся из телевизора: «вялотекущая шизофрения», «Институт Сербского», «принудительное лечение»… Я подошёл к телевизору. Мать возилась на кухне и даже не видела меня. В итоге я, оставаясь в одиночестве в её комнате, почти целиком просмотрел документальный фильм, сразу же перевернувший мою жизнь.
Фильм так и назывался — «Вялотекущая шизофрения». Так называемая гласность позволила наконец выпустить его на экраны, хотя снят он был пятью годами ранее. В нём говорилось об одном из самых отвратительных эпизодов поздней советской истории — о репрессивной психиатрии.
В самом деле: едва ли когда-либо и кем-либо был придуман лучший способ изолировать неугодного гражданина от общества. Сажать и расстреливать — это уже как-то дико и старомодно. Слишком шумно и заметно, слишком хлопотно, слишком жестоко и нецивилизованно, слишком очевидно имеет политическую окраску, слишком легко превращает врага в мученика. Куда проще, тише, спокойнее и «гуманнее» объявить, что гражданин сей — не в своём уме и тому есть неоспоримое научное подтверждение.
Вы не согласны? — Да разве ж можно с наукой спорить! На какой срок? — Так ведь это ж не тюрьма — как вылечим, так и отпустим! И кому какое дело, что отсутствие даже предположительной даты освобождения давит на психику заключённого ещё больше, нежели конкретный тюремный срок. А поскольку термин «вялотекущая шизофрения» был разработан специально для политических нужд — смысл его (в силу традиций советского права) был настолько неуловимым, а содержание настолько туманным, что подпасть под него, как и под «антисоветскую агитацию и пропаганду», мог едва ли не любой человек.
Но всего более меня поразило то, что я узнал об условиях содержания политических пациентов, которые мало чем отличались от лагерных, красочно описанных Солженицыным. Более семнадцати лет своей жизни Фёдор Дмитриевич Белогорский провёл в тесной и душной клетке, переполненной настоящими сумасшедшими и охраняемой настоящими уголовниками. Его пичкали препаратами, которые в самом деле помутили его рассудок и окончательно разорвали его связь с реальностью. И конца этому не было видно, ибо он лишён был права знать, когда выйдет оттуда и выйдет ли когда-нибудь.
На то и рассчитано было, что, если и выйдет — уж и в самом деле будет с помутнённым рассудком. И пущай хоть НАТО лезет с проверками в нашу клинику — поди докажи, что когда-то он был нормальным. Вы ещё сомневаетесь? — Да посмотрите же сами и послушайте тот бред, что он несёт! И всякое оппозиционное выступление входит в прочную ассоциацию с этим бредом. Теперь вы видите, какие люди выступают против Советской власти? Вы тоже против — значит, и вы такой же?
Когда я услышал всё это и увидел кадры, снятые в подобных лечебницах — тошнота подступила к горлу. Одно дело — слушать про зверства большевиков на уроке истории или читать о них в книжке. Совсем другое — понимать, что жертвой режима стал родной тебе человек. И было это не когда-то в незапамятные времена «культа личности» — а совсем недавно, здесь и сейчас. Каких-нибудь пару месяцев назад отец, быть может, ещё лежал там и не ведал конца этой пытки!
Меня насквозь пронзило мучительное чувство стыда, какого я никогда ранее не испытывал с такой силой. Этот человек, которого я ненавидел, считал позором и обузой семьи — был настоящим героем, мучеником за правду, взошедшим на эшафот за свои смелые антисоветские убеждения. Как я и предполагал в своих самых дерзких мечтах, мой отец пал жертвой политических репрессий. Именно они превратили его в жалкое и никчёмное полуживотное. И этого человека, которым надо было гордиться, я жестоко оскорбил в последний день, когда видел его, и навсегда запомнился ему таким!
Что же делать теперь? Как исправить эту чудовищную ошибку? Где искать потерявшегося отца? Как просить у него прощения, если он найдётся? И как жить дальше с этим невыносимым чувством отвращения к самому себе? Больше всего меня терзала мысль, что отец ушёл помирать в одиночестве, почувствовав себя обузой, не встретив в родной семье понимания и сочувствия, не захотев осложнять наши жизни своей — уже давно конченой и утратившей смысл жизнью. А зачем жить, если даже единственный сын, на которого ты возлагаешь последние надежды — ненавидит тебя? Я почувствовал себя отцеубийцей, вспомнив своего тёзку из Достоевского. Уже тогда я понял, что мне придётся жить с этим всю оставшуюся жизнь. И до гробовой доски корить себя за то, что обидел своего героического отца, прежде чем навек с ним расстаться.
И почему этот фильм не вышел на экраны раньше? И только ли в фильме дело? Разве информация о советской репрессивной психиатрии не была уже давно открыта и общедоступна? Разве жизнь познаётся по телепередачам? Разве не должен был я знать об этом, как гражданин, мыслящий человек своей эпохи, к тому же планирующий влиять на чужие умы? Разве не было моей обязанностью разобраться в этом, прежде чем осуждать отца? В самом деле — пожалуй, мерзее всего было то, что фильм этот отнюдь не открыл для меня что-то принципиально новое. Разве я не знал всего этого раньше?

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
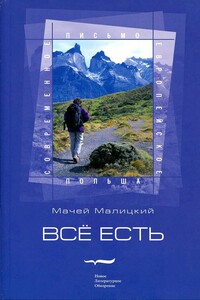
Мачей Малицкий вводит читателя в мир, где есть всё: море, река и горы; железнодорожные пути и мосты; собаки и кошки; славные, добрые, чудаковатые люди. А еще там есть жизнь и смерть, радости и горе, начало и конец — и всё, вплоть до мелочей, в равной степени важно. Об этом мире автор (он же — главный герой) рассказывает особым языком — он скуп на слова, но каждое слово не просто уместно, а единственно возможно в данном контексте и оттого необычайно выразительно. Недаром оно подслушано чутким наблюдателем жизни, потом отделено от ненужной шелухи и соединено с другими, столь же тщательно отобранными.

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».
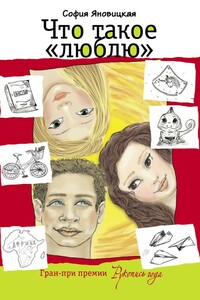
Приключение можно найти в любом месте – на скучном уроке, на тропическом острове или даже на детской площадке. Ведь что такое приключение? Это нестись под горячим солнцем за горизонт, чувствовать ветер в волосах, верить в то, что все возможно, и никогда – слышишь, никогда – не сдаваться.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.