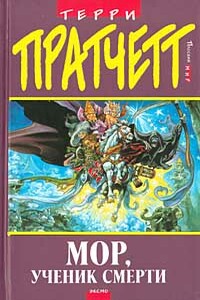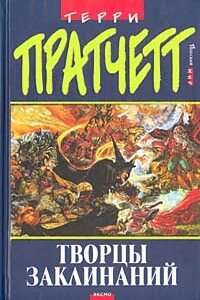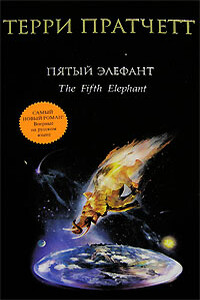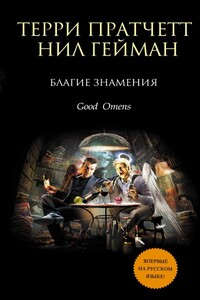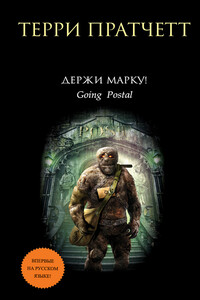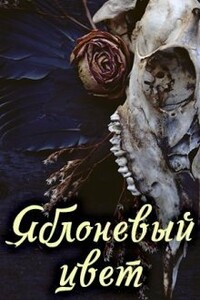– Как оно? – спросил он, кладя мне руку на плечо. Была она тяжелой и принесла далекий плач младенцев. Один из самых жестоких отзвуков чудеси.
– Окей, – соврал я. А он смотрел на меня, словно пытался припомнить. Или выучивал меня заново.
– Все в порядке? – спросил я.
– Наверняка.
Он тоже не умел врать. Его глаза, красные от усталости, глубоко сидящие в синих морщинах, – не умели.
Мы услышали сирены, высокие звуки сложились в короткое сообщение. Где-то на окраинах города плеснуло скривицей. Как бы не было жертв.
– Наверняка, – повторил отец.
Его рука становилась все тяжелее. Я обнял его за пояс. Он благоухал моим детством. Счастьем.
Мы медленно двинулись к спуску на лестничную клетку.
– Мама уже спит.
– Это ничего.
Пойдем домой, папа.
* * *
Она снилась мне, в который раз. Мы были одни, а она шла ко мне. Опять это чувство: знаю ее по миру до войны, уже встречал когда-то, до того, как она стала той, кем есть – единственной выжившей из первых переводчиков. Единственной, кто в одиночку вернулся из Пограничья. Опять это изматывающее чувство, что я знал ее до того, как она показала миру, как сражаться, до того, как сделалась нашим лучшим оружием. Живой легендой.
Снилось мне, что она подошла близко. И сделала еще шаг. И тогда знакомая фигура распалась на отдельные детали. Сверкающая чернота кожи мундира. Отблески на металлических пряжках ремней на груди. Бледная, натянутая кожа лица. Губы. Изгиб бровей, решительный, острый. Волосы, упрятанные под фуражку. Губы. Приметная повязка на глазу, которого нет. Длинные ресницы того, который есть. Губы. Кости скул: острее, чем брови.
Губы.
Разбудили меня звуки из-за стены, настолько громкие, что пробились сквозь заглушку. Секс родителей успешно прогнал эрекцию и сон. Первые два рассветных часа были душными и неудобными, я потел в пододеяльнике, мечась в нем, как куколка в липком коконе. Это самый безопасный способ провести ночь при нынешней конфигурации приливов скривицы на Пограничье, стыкующемся с моей комнатой. Спать под одеялом было бы рискованно, грозило бы течью. Поэтому я сплю на одеяле, в хлопковом типа-спальнике. На одном из форумов на темной стороне сети кто-то советовал использовать комплекты постельного белья из «Джиска»:[95] специфический состав хлопка, из которого они изготовлены, вместе с расцветкой покрытия будто бы дают неплохие результаты. Я наездился за ними (в городе, наверное, больше читавших эти группы, чем я полагал), но оно того стоило. Все подтвердилось.
Знаю, как все это звучит. Эта война искривляет. Ждет, пока ты окажешься один, слабый, измученный и неуверенный. И тогда протягивает к тебе лапу. Хватает за загривок стальной хваткой и, смеясь, гнет к земле. А ты сползаешь все ниже. Несмотря на то, что стараешься, что сражаешься, чтобы остаться собой, с неподдельными воспоминаниями и настоящими лицами вокруг.
Я сражался и съезжал все ниже. Все мы сражались.
Наконец в половине седьмого я выбрался из кровати. Утренние ритуалы: сменить диск с заглушкой, включить лэптоп и залогиниться в службах по обе стороны сети (но так, чтобы не прочесть пока ни единого сообщения, еще не пора), просмотреть сообщения из штаба, информирующие о положении Пограничья, пятьдесят отжиманий, потом душ.
Я пробормотал приветствие занятой на кухне матери и вошел в ванную. Отец брился возле умывальника.
– Что так рано? – спросил он, не отрывая взгляда от отражения в зеркале.
– Выспался, – пожал я плечами и потянулся за зубной щеткой.
– Я тоже, – усмехнулся он сам себе.
Мы немного помолчали. Я украдкой присматривался к отцу.
Он очень изменился со времен моего детства. Недавно меня шокировал снимок, на который я наткнулся в старых комиксах. Первое причастие: мордастенький пацан в «Альбе» не по росту (я получил ее после Мариушика, который в моем возрасте был повыше) и белых кроссовках-софиксах, а позади – полноватый седеющий сорокалетний мужчина в широких отутюженных штанах и кошмарной цветастой рубахе с короткими рукавами и узором из огромных маков. Я вообще не помнил его таким: мягким, вежливым человеком с приятным лицом и телом накаченного младенца. Чувака, чьи основные обязанности до войны ограничивались организацией культурно-просветительной программы для солдат части.
Возле меня же стоял наголо стриженный статный мужчина. Весь в татуировках, которые оживали, когда двигались сильные мышцы под ними. Высокий, как будто со времен того снимка он продолжал расти вместе со мной. Изрезанное шрамами лицо капитана Анджея Озимчука никто не назвал бы вежливым.
– Я нашел его следы в нескольких сгустках, – сообщил он наконец.
Я замер. Ждал, что скажет дальше
– Редкий сложный узор, – закончил он. – Но слабый, неприметный. Осциллировал в сгустках, текущих к неньютоновским каналам. Похоже, что Мариуш пытается вернуться через семантический порядок.
Мариуш. Мой старший брат. Столько лет заключенный в больную ткань Пограничья, терзаемый чудесью. Он немо выл искусными мозаиками, которые я складывал в цельную картинку из текстов и образов, разбросанных якобы без всякой системы по светлой стороне сети. Столько лет невообразимых мук.