Во всей своей полынной горечи - [44]
Нудно жужжала муха, безнадежно увязшая в липучке, что подвешена была к матице.
— Олекса что? Олекса еще сосунок, хоть и в армии уже отслужил, — говорил Прокоп, пытаясь выудить папиросу из пачки «Беломора», что лежала перед ним. Корявые пальцы никак не могли ухватить конец — и тогда Прокоп, рассердись, встряхнул ее так, что папиросы грудой вывалились на стол.
— Я подберу, — сказал с готовностью Олекса, а Прокоп, поглощенный какой-то своей мыслью, не обратил внимания на рассыпавшуюся пачку.
— Ты вот в председательшах была, должна понять. Ну, знаю, что ты там думаешь… все вы думаете о Прокопе. Он, мол, такой… сякой. Думаете, ну и ладно. Мне наплевать. Нет, ты погоди, не перебивай! Ты в начальстве ходила, можешь понять меня… хотя от тебя тоже одна шкурка осталась… такая, что аж светится насквозь. Пришло время — дали и тебе, значит, коленкой под зад, и будь здоров, кирюша!
— Заслужила, значит! — засмеялась Валета и добавила, играя бровями: — А вот что во мне все насквозь светится — такого вроде не примечала…
Прокоп, однако, пропустил мимо ушей кокетливый намек, приглашавший к разговору веселому и фривольному.
— Ты волоки сюда еще пляшку. И, слухай, давай трахнем за шкурку!
— Это какую такую еще шкурку?
Валета, конечно, отлично все понимала, но хитрила, стараясь отвлечь внимание Прокопа от вопроса о новой пляшке.
— Ну… тоненькую, сухую. Я возле леса на ямах часто находил. Ну, выползок ужиный, который после линьки остается. Или гадючий. Гадючий — это уж точно, потому как ты в председательшах лютая была, вроде гадюки в юбке. Стало быть, мы с тобой оба гада и есть. Только я-то по глупости, из гонора и спортивного интересу. Да еще, может, с тоски. А ты, похоже, как всерьез. А для Ганки Карпенковой все одно гады — и ты и я. Вот так. Начистоту если. Помнишь, скольких я к тебе приводил? Помнишь?
— Ну, было, — отвечала Валета, несколько задетая сравнением. — Ну и что?
— А Матусевича помнишь? Ну… финагента?
Еще бы не помнить! Когда-то он был одной из самых видных фигур в Сычевке — рябой, какой-то мятый и скользкий, точно маринованный гриб, в насквозь пропахшем «бурячихой» коричневом вельветовом костюме. Было в этом человеке что-то от лавки, которая с незапамятных времен стояла в сельсоветской прихожей: она вся вытерлась, лоснилась, несла на себе следы долгого общения с людьми. Хозяйки, бывало, прятались в страхе, завидев Матусевича из окна.
— Тертый, зубастый мужик был и сволочной… — продолжал Прокоп. — Не мужик, а насос ходячий!
— Э, нашел кого вспоминать!
— А что, не нравится? Вы же вместе в одной упряжке ходили! А теперь нос воротишь?
— Да ладно, будет тебе. Что было, то сплыло.
— Ну, это ты брось, Валентина! Старое хулить будешь — зоб вырву!
— А я что разве сказала?
— …Брось, понятно? Я вот что скажу: человек, если в нем уважения или страха нету, он расплывается. Как тесто: ты его вечером поставишь на лежанку, а к утру оно сбежало. Потекло, значит…
— Насчет теста ты закругляйся.
— Н-нет, погоди! Прокопа уважали? Да духу одного его боялись! Скажешь, нет? Вот то было время! А теперь… Теперь можно и собаку пристрелить, и в душу плюнуть… Но ты попомни, Валентина: кое-кто еще завоет не своим голосом, еще поплачет кровавыми слезами — не будь я Прокоп Багний!
Тяжелой ладонью грохнул Прокоп по столу — звякнул опрокинутый стакан, подскочили тарелки, — побледневший, посеревший, с хищно округлившимися вырезами ноздрей, вперил мутный взгляд в буфетчицу, словно это она совершила тяжкое преступление.
— Начинается! — строго заметила Валета. — Ты мне посуду не бей! Давай кончай и ступай до хаты. Там и будешь стучать. А тут у меня казенное имущество!
Прокоп нервно всхлипнул, шумно потянул носом, крылья его раздулись, и тут же отошел, обмяк. Краска, схлынувшая было с лица, вернулась вновь.
— Вот где у меня печет, — ткнул себя кулаком в грудь, — и ничем его не зальешь!
— А короткая же у тебя память, Прокоп! — сказала Валета, все более распаляясь в споре. — Духу, говоришь, боялись? А ты забыл, как всем селом тушили твой сарай? Забыл? Или, может, ты сам его поджег? Вот тебе и уважение! А тебе все мерещится… сон сивой кобылы, извиняй на слове. Выдумал ты все! Погулял в свое время, потешился, а теперь тебе и кажется небось, что жизнь вроде не так идет, как нужно. Как тебе хотелось бы. Старого, Прокоп, не воротишь! Да оно, если по справедливости, пора и честь знать!
— Ты тоже, значит, туда же? Прокоп нужен был, когда колхоз в заплатах ходил… дырка на дырке. Во как нужен был, чтоб гавкал да на людей кидался! А как разбогатели, так тут уже, выходит, мы вроде и не родичи. Можно, выходит, Прокопу и по шапке дать. Ну где же тут правда?
— Ой, что-то поздненько ты хватился эту самую правду искать! Стало быть, раньше она тебе не нужна была, правда-то? Что-то не припомню, чтоб у тебя такая забота была!
Прокоп жестко провел по лицу рукой, точно паутину снимал, и так, зажав рот ладонью, немо уставился на Валету. Был он изрядно пьян. Валета близко видела его глаза, маленькие, утонувшие в складках и буграх, и казалось ей, будто не в глаза она заглядывает, а в пустую хату, где когда-то жили, а теперь убрали все, оголили стены, в хату, где была одна сплошная серость и пустота, близко, казалось, видела чужой и непонятный мир, и невольно поежилась с таким ощущением, словно ненароком подсмотрела что-то постыдное, что никому постороннему видеть никак не пристало. Но в следующую минуту это ощущение исчезло, потому что Прокоп зажмурился. А когда отнял руку, он был таким же, как всегда.
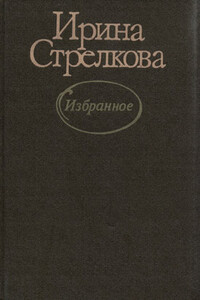
«Появление первой синички означало, что в Москве глубокая осень, Алексею Александровичу пора в привычную дорогу. Алексей Александрович отправляется в свою юность, в отчий дом, где честно прожили свой век несколько поколений Кашиных».
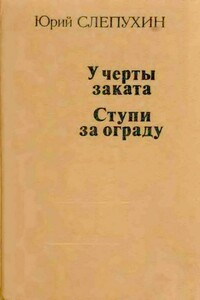
В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

…Человеку по-настоящему интересен только человек. И автора куда больше романских соборов, готических колоколен и часовен привлекал многоугольник семейной жизни его гостеприимных французских хозяев.