Во всей своей полынной горечи - [33]
Возле канавы, пролегавшей, как обычно, вдоль огородов, остановилась, переменила руку, поправила веревку, немилосердно резавшую в плечо. Осталось пройти через картошку по тропке, затем немного проулком — и Ганна дома. «Может, отстанет-таки, — размышляла. — Не каменное же у него сердце! А за вязанку, врешь, в тюрьму не посадят!»
Ганна перебралась с трудом через ров, аж в глазах потемнело, пока выкарабкалась наверх, и тут же учуяла запах дыма. «Кабана, должно, Матвей, смалит в огороде, — мелькнуло в уме. — Только с чего бы это на ночь глядя?» Еще через несколько шагов она ощутила вдруг тепло на плечах и спине, и тут только ее осенила догадка: может, Прокоп?.. Ганна уронила вязанку.
Солома горела. По ту сторону рва сидел на коне объездчик, свесив по привычке ноги на сторону. Щурился, в усмешке кривил губы: что, взяла? Вспомнила угрозу: «Неси, неси, дурья башка!» Значит, он уже тогда решил, что подожжет. А она перла, надсаживалась, глаза на лоб лезли…
Ганна хватала воздух перекошенным ртом, в бессилии яростно грозила жилистым мужским кулаком, не могла вымолвить ни слова от тяжкой неслыханной обиды. Опомнившись, потянула за веревку. Вязанка рассыпалась, повалил густой шелковистый дым.
Давно то было…
Прокоп присаживается на корточки у порога, упирается спиной в дубовый косяк, закуривает. Холщовую торбочку с пустой, из-под молока, бутылкой положил рядом.
— Обида та хоть и былью поросла, — говорит Ганна из сеней, вешая решето на колышек, — а забыть не могу. Век прожила, а такого не видела. Если б фашист какой над бабой беззащитной измывался…
— Служба такая была, — неохотно оправдывается Прокоп; он уже не рад, что заикнулся о том случае. — И время такое… Да и ты-то хороша… беззащитная: дули тычет, подбородок трясется, аж посинела вся. Того и гляди, как тигра, в глотку вцепится. Иной бы таких чертей отвалил, что навек зареклась бы дули давать.
— Ну, ты-то в долгу не остался, — отзывается Ганна, и Прокопу слышно, как она, прикрыв каморку, щелкает засовом. — Как вспомню, так и сейчас аж дрожу вся.
— Ничего, подрожишь и перестанешь. Одной так было, и ничего, сто лет жила. Меня тогда ты, может, тоже того… задела за живое.
— Тебя? Это как же? — Ганна вышла на порог, стала в дверях.
— А, не будем ворошить.
— А все же?
— Ты, должно, думаешь и сейчас, что за чарку Прокопа можно было купить. А у меня своя амбиция. Ну, скажи вот, к примеру, кому я продался? Хоть раз, ну?
— Кто тебя знает, — отвечает Ганна уклончиво. — Дело-то темное…
«Это она нарочно, — соображает Прокоп. — Мстит, ведьма рябая. Не иначе».
К кривоногому замызганному стульчику Ганна подсовывает тазик, из кошелки, стоящей в углу сеней, выбирает гичку — листья свеклы, складывает стебель к стеблю.
— Носишься ты со своей амбицией — извиняй на слове — как дурень со ступой. А я так понимаю: раз уж среди людей живешь — так и обходись с ними по-людски. Не считай, что ты намного умнее других.
Ганна положила на стульчик пук гички и стала крошить, ссыпая крошево в тазик — готовила на завтра поросятам.
— И не плюй в колодец: может, еще сгодится воды напиться.
— Говори, говори, — буркнул Прокоп. — Говорила наша покойница до самой смерти, да все черт знает что! Так и ты. Если уж хочешь знать, так я собаке только и доверяю. А больше никому. Человек, он корысть любит. А собака что? Хитрости в ней как у дитяти малого. Все сверху. Прижала уши — значит, укусить хочет. А наш брат… На языке одно, а на уме другое. Ты вот знаешь, кто Черта убил, а темнишь.
Ганна промолчала, и непонятно было, то ли она не желала повторять то, что уже высказала Прокопу, то ли в самом деле ей было кое-что известно, но она не желала говорить. Ее руки с мослаковатыми заскорузлыми пальцами и взбухшими венами привычно и споро крошили гичку, одним взмахом ножа сбрасывали крошево в тазик.
— Ну, и за что убили-то? — продолжал Прокоп. — Ну, правда, был шкодлив немного. Ну так приди ко мне: так, мол, и так… Верну тебе ту паршивую курку…
— Как же, вернешь! Держи карман шире. Выматюкаешь под первый номер да еще собак напустишь.
Очень неудобный собеседник эта Ганна: нет того, чтоб поддержать душевный разговор. Чуткости в ней как у той лошади — иго-го! — и пошла напрямик!
— Ладно, от мата никто еще не помирал. А Черта угробили. Но я все равно разведаю, чья это работа. А уж тогда… Тогда берегись!
— Хату спалишь?
— Там уж я соображу что. Думаешь, все, обломали Прокопа? А дудки!
— Пустое балакаешь, — спокойно заметила Ганна. — Теперь на тебя бы-ыстро управу найдут. На пенсию скоро пора, а ты все еще, как петушок молоденький, прыгаешь да наскакиваешь…
Покончив с гичкой, хозяйка ушла в сарай доить корову, а Прокоп все не уходил, сидел на пороге, глядел через огород в поле, курил, размышлял.
Степь медленно погружалась в лиловатую полумглу, засыпала, убаюканная колыбельными напевами: настырно тыркали сверчки, тонко вызванивали цикады, словно махонькие пружинки часиков скручивались и раскручивались в монотонном усыпляющем ритме. Унылый незатейливый мотив плыл над степью, перемигивались звезды-одиночки, точно стряхивали на землю дремотную тысячелетнюю грусть. В сарае, где Ганна доила корову, все реже урчала певучая упругая струйка молока. Она уже не вызванивала по дну и стенкам цибарки, как вначале, а вспарывала пену, и звук выходил такой, будто вспарывали подушку. Рослые мальвы возле хаты, похожие на ночные телевышки с красными огнями, стыли в вечернем безветрии. Откуда-то заявился Ангел, мокрый от росы, обнюхал сидевшего на пороге хозяина и отдельно торбочку, в которой Прокоп брал с собой еду в поле, — она пахла хлебом и салом, — вильнул хвостом и убежал снова.
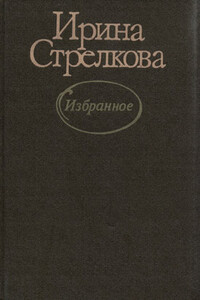
«Появление первой синички означало, что в Москве глубокая осень, Алексею Александровичу пора в привычную дорогу. Алексей Александрович отправляется в свою юность, в отчий дом, где честно прожили свой век несколько поколений Кашиных».
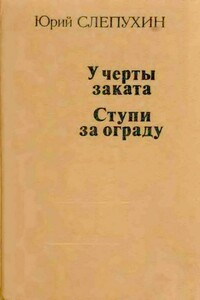
В однотомник ленинградского прозаика Юрия Слепухина вошли два романа. В первом из них писатель раскрывает трагическую судьбу прогрессивного художника, живущего в Аргентине. Вынужденный пойти на сделку с собственной совестью и заняться выполнением заказов на потребу боссов от искусства, он понимает, что ступил на гибельный путь, но понимает это слишком поздно.Во втором романе раскрывается широкая панорама жизни молодой американской интеллигенции середины пятидесятых годов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

…Человеку по-настоящему интересен только человек. И автора куда больше романских соборов, готических колоколен и часовен привлекал многоугольник семейной жизни его гостеприимных французских хозяев.