Вильнюсский двор - [21]
Чтобы не усугублять отчужденность жильцов друг от друга и чтобы она не переросла в замаскированную улыбками враждебность, между евреями и нацменьшинством нужен был связник, и эту непростую роль добровольно взял на себя мой находчивый дядя Шмуле. С одной стороны, он по мере своих возможностей заочно знакомил своего сослуживца полковника Васильева с каждым жильцом: этот, мол, — замечательный портной (имелся в виду мой отец), этот — первоклассный краснодеревщик (на сработанной им двуспальной кровати почивал бывший президент Литвы Сметона с супругой Зосей), этот — лихач-таксист (за два часа домчит любого пассажира до Минска), а этот — мужской парикмахер, который чудом спасся в Дахау и несмотря на покалеченную в лагере руку стрижет и бреет, как лучшие мастера в Париже; этот — умелец-маляр (в два счета перекрасит вам темную ночь в ясный день); этот — укладчик паркета с многолетним стажем (на загляденье настелет полы в квартире), а этот — интеллигент-бухгалтер (честнее самого Бога, сидит в государственном банке и подсчитывает чужие денежки). С другой стороны, Шмуле убеждал жильцов, что Анатолий Николаевич кому-кому, а им никакого зла не желает. Если он и сторонится их, не вступает с ними в разговоры, то не потому, что они евреи, а потому, что он от природы человек замкнутый, необщительный и что у него настоящий сибирский характер; Васильев даже с женой и с детьми такой — ни одного лишнего слова.
— Самуил Семенович! А я, по правде говоря, думал, что среди евреев — все доктора и скрипачи… У нас в санитарном отделе — Добровицкий, Зак, Нудельман, а на сцене Ойстрах, Коган… Каюсь, просто не ожидал, что столько у вас ремесленников и мастеровых… — не постеснялся признаться Васильев.
— Всякие среди нас водятся, Анатолий Николаевич. Каждый народ, как река, разные рыбы в ней плавают, — мягко поучал Васильева Шмуле. — Если кто-нибудь из них вам понадобится, только скажите… Будет вам и маляр, и паркетчик, и портной, и парикмахер на углу проспекта Сталина и Татарской.
— Надеюсь, сразу все вместе нам не понадобятся, — усмехнулся полковник. — Возможно, по отдельности — да. Лида мне про ремонт уже уши прожужжала, да и старый паркет в гостиной весь покоробился…
— Может, вам начать с портного? — ковал железо, пока горячо, Самуил Семенович. — У меня для вас, товарищ полковник, есть замечательный мастер. За ним далеко ходить не надо. Он в подъезде напротив вас живет. Это мой шурин. Он когда-то самого командующего Белорусским фронтом — маршала Рокоссовского — обшивал. К празднику Победы парадный мундир ему в Пруссии сшил. В этом мундире он и проскакал с Жуковым на белом коне по Красной площади.
— Да что вы?! — воскликнул Васильев.
— Чтоб я так жил! — на еврейский манер ответил Шмуле.
— Верю, верю! Но мы-то с вами, Самуил Семенович, мундиров не носим… И по площадям в праздники на рысаках не скачем. Сами, по-моему, понимаете, почему.
— Мой шурин сошьет вам такой штатский костюм, какой вам никто ни в каком швейном ателье не сошьет.
— Стоит ли? — По вечной мерзлоте монголоидного лица Анатолия Николаевича вдруг скользнула случайная, теплая улыбка. — В высшем свете не бываю, в филармонию, как в молодости, не хожу, жене пока нравлюсь в любой одежке.
— Стоит, стоит, — не унимался настойчивый Шмуле.
Васильев снова улыбнулся, смахнул со лба густую, тронутую сединой прядь и после некоторого раздумья, то ли согласившись, то ли обрывая разговор, сказал:
— Разве что к предстоящему юбилею…
— Октябрьской революции? Но до юбилея Октябрьской революции еще времени предостаточно.
— Не к юбилею революции, а к моему собственному. Он уже не за горами. Шутки шутками, но скоро шестой десяток разменяю. Из Якутска в Вильнюс собирается приехать целая делегация — мои родители, младший брат Тимофей с женой Клавой. Лидина родня. О таком крае, как Литва, они там, в своей алмазно-золотой глубинке, наверно, раньше и слыхом не слыхали… Может, на самом деле стоит в честь этой кругленькой даты обновкой перед ними щегольнуть…
— Почему бы нет? — поддержал его Самуил Семенович, и вдруг в какой-то короткий и щемящий миг на него откуда-то из глубин подсознания нахлынули завистливые и печальные воспоминания о своих собственных родителях. Они к нему, к своему Шмулиньке, уже никогда в Вильнюс не приедут — ни на свадьбу дочери, ни на его пятидесятилетний юбилей. К счастью, к горькому и страшному счастью, они не погибли от рук соседей, которым отец Шимен тачал сапоги и подбивал подметки, а умерли в своей постели и навеки остались в Йонаве. Никто для потехи перед расстрелом не опалил горящей головешкой рыжую и пушистую бороду отца, никто не раздел донага богобоязненную мать.
Воспоминания на время отдалили его от Васильева, перекинули туда, где под стук отцовского молотка он встречал каждое утро, и этот стук был такой же приметой жизни, радостной и бесконечной, как восход солнца или пенье птиц.
— Что-то вы, Самуил Семенович, загрустили? — От бдительных глаз полковника не ускользнула перемена в настроении собеседника.
— Вспомнил своих рано умерших родителей, — отрапортовал тот. — Когда-то мне наивно казалось, что мы должны умереть вместе. Но в очереди за смертью местами не меняются. Ладно, больше не будем о грустных вещах… Вернемся к моему шурину. Если вы разрешите, я поговорю с ним…
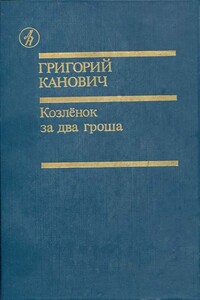
В основу романа Григория Кановича положена история каменотеса Эфраима Дудака и его четверых детей. Автор повествует о предреволюционных событиях 1905 года в Литве.

Третья книга серии произведений Г. Кановича. Роман посвящен жизни небольшого литовского местечка в конце прошлого века, духовным поискам в условиях бесправного существования. В центре романа — трагический образ местечкового «пророка», заступника униженных и оскорбленных. Произведение отличается метафоричностью повествования, образностью, что придает роману притчевый характер.
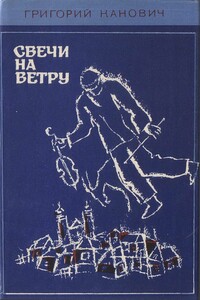
Роман-трилогия «Свечи на ветру» рассказывает о жизни и гибели еврейского местечка в Литве. Он посвящен памяти уничтоженной немцами и их пособниками в годы Второй мировой войны четвертьмиллионной общины литовских евреев, олицетворением которой являются тщательно и любовно выписанные автором персонажи, и в первую очередь, главный герой трилогии — молодой могильщик Даниил, сохранивший в нечеловеческих условиях гетто свою человечность, непреклонную веру в добро и справедливость, в торжество спасительной и всепобеждающей любви над силами зла и ненависти, свирепствующими вокруг и обольщающими своей мнимой несокрушимостью.Несмотря на трагизм роман пронизан оптимизмом и ненавязчиво учит мужеству, которое необходимо каждому на тех судьбоносных поворотах истории, когда грубо попираются все Божьи заповеди.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Местечковый романс» — своеобразный реквием по довоенному еврейскому местечку, по целой планете, вертевшейся на протяжении шести веков до своей гибели вокруг скупого литовского солнца. В основе этой мемуарной повести лежат реальные события и факты из жизни многочисленной семьи автора и его земляков-тружеников. «Местечковый романс» как бы замыкает цикл таких книг Григория Кановича, как «Свечи на ветру», «Слёзы и молитвы дураков», «Парк евреев» и «Очарование сатаны», завершая сагу о литовском еврействе.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.
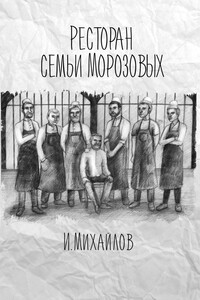
Приветствую тебя, мой дорогой читатель! Книга, к прочтению которой ты приступаешь, повествует о мире общепита изнутри. Мире, наполненном своими героями и историями. Будь ты начинающий повар или именитый шеф, а может даже человек, далёкий от кулинарии, всё равно в книге найдёшь что-то близкое сердцу. Приятного прочтения!

Логики больше нет. Ее похороны организуют умалишенные, захватившие власть в психбольнице и учинившие в ней культ; и все идет своим свихнутым чередом, пока на поминки не заявляется непрошеный гость. Так начинается матово-черная комедия Микаэля Дессе, в которой с мироздания съезжает крыша, смех встречает смерть, а Даниил Хармс — Дэвида Линча.

ББК 84. Р7 84(2Рос=Рус)6 П 58 В. Попов Запомните нас такими. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2003. — 288 с. ISBN 5-94214-058-8 «Запомните нас такими» — это улыбка шириной в сорок лет. Известный петербургский прозаик, мастер гротеска, Валерий Попов, начинает свои веселые мемуары с воспоминаний о встречах с друзьями-гениями в начале шестидесятых, затем идут едкие байки о монстрах застоя, и заканчивает он убийственным эссе об идолах современности. Любимый прием Попова — гротеск: превращение ужасного в смешное. Книга так же включает повесть «Свободное плавание» — о некоторых забавных странностях петербургской жизни. Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью Администрации Санкт-Петербурга © Валерий Попов, 2003 © Издательство журнала «Звезда», 2003 © Сергей Шараев, худож.