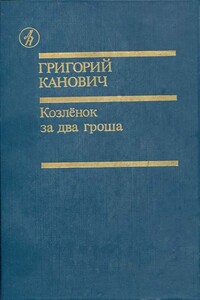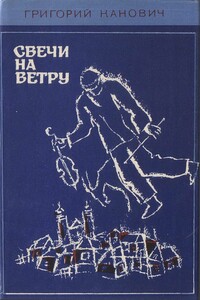1
Я давно собирался написать о маме с тем радостным усердием и той необременительной обстоятельностью, с которой и подобает вспоминать о родителях — самых близких и дорогих людях. Но, к стыду своему, почему-то всё откладывал и откладывал это благое намерение или писал урывками, как бы невзначай, ограничиваясь отдельными эпизодами в рассказах о земляках и родственниках. Желая как-то сгладить усиливающееся чувство вины, я вдруг спохватывался и принимался что-то набрасывать, даже во сне, но назавтра все приснившиеся, как мне казалось достойные, слова безжалостно стирало наступившее утро.
И вот теперь, на склоне лет, я всё-таки решил, что дальше медлить не имею никакого права и надо не угрызаться, а поторопиться, хотя бы отчасти искупить свою вину перед мамой — ведь, не приведи Господь, можно и не успеть…
Поторопиться-то я и на самом деле решил, но, перебирая в мелеющей памяти всё, что до преждевременной кончины мамы о ней узнал, не очень ясно себе, честно признаться, представлял, с чего следует начать моё повествование. Ещё не приступая к работе, я отдавал себе отчёт, что мой рассказ не будет ни последовательным, ни цельным, ибо и сама её жизнь не была ровной и гладкой.
Наверное, подумал я, лучше всего начать с той давней поры, когда меня ещё на свете не было, с той неразгаданной доселе загадки, как же маме удалось войти невесткой в дом моей властолюбивой и привередливой бабушки Рахели Канович, в девичестве Минес, которую в нашем местечке даже мужчины побаивались. Недаром с лёгкой руки местечкового доктора Ицхака Блюменфельда земляки наградили её странным и жутковатым прозвищем Роха-самурай.
Бабушка Роха считала своего старшего сына Соломона — Шлеймке — самым завидным женихом в крохотном, как затерянный напёрсток в необъятной Вселенной, местечке Йонава и оберегала его от роковой ошибки. По её убеждению, такого красавца не было не только в Йонаве, но и во всей Литве от границы с Латвией до рубежей Польши, откуда в законопослушную Йонаву неведомо какими путями нет-нет да и забредали незваные гости — вольнолюбивые хасиды в чёрных долгополых лапсердаках. Они нестройным хором распевали молитвенные песнопения и ловкими, словно гуттаперчевыми, ногами выписывали в своих причудливых плясках на мощённой булыжником мостовой невиданные в здешних краях иероглифы во славу Господа Бога, завещавшего всему роду-племени Израилеву неустанно и повсюду плодиться и размножаться.
Из рассказов и запоздалых признаний мамы, которая любила то и дело возвращаться в свою далёкую молодость и никогда не упускала случая юркнуть в прошлое, как белка в облюбованное дупло с запасами, складывался рваный, извилистый сюжет моего повествования. Его исходной точкой были трудные отношения нежеланной Хенки Дудак с моей бабушкой Рохой и обстоятельства, связанные с замужеством мамы и моим появлением на свет. С них-то, подумал я, и следует начать.
— Может, ты, Довид, знаешь, где по вечерам пропадает наш дорогой сыночек Шлеймеле? — не скрывая тревоги, допытывалась бабушка Роха у своего сумрачного, как поздняя литовская осень, мужа Довида, склонившегося над сапожной колодкой.
Довид в раздумье потеребил жидкую рыжеватую бороду и равнодушно, как будто в комнате, кроме него, живых существ не было, продолжал тыкать шилом в носок чьей-то поношенной туфли.
По своему обыкновению, на вопросы, не имеющие прямого касательства к его ремеслу, он предпочитал не отвечать или если уж удосуживался это сделать, то только взглядом слезящихся печальных глаз или наклоном головы.
— Чего ты молчишь?! Разве Шлеймке не твой сын?
Осенней печали в глазах деда нисколько не убавилось, но за стеклами очков в поблекшей роговой оправе тускло вспыхнул скудный ломтик улыбки.
Слова Довид понапрасну не тратил. Деньги, заработанные шилом и молотком, уверял он, грешно утаивать от жены. Будь добр, выложи всё до последнего гроша. Но слова? Кому интересны слова? От них только недоразумения и неприятности. Скажешь ближнему своему правду, он не только не поблагодарит, а, глядишь, ещё разобидится и может даже сгоряча влепить тебе оплеуху. А соврёшь — своей брехнёй как бы самому себе прямо в душу плюнешь. Лучше всего молчать. Господь Бог на небесах не зря помалкивает. И нам, грешным, Он тоже велит держать язык за зубами — всё равно на всех слов не напасёшься! Если уж с кого-нибудь брать пример, то с Него, а не с соседки Тайбе, у которой весь день рот не закрывается.
— Ты, Роха, пошевели мозгами. Что было бы, если бы Всевышний каждый день отвечал на вопросы тех, кто Его спрашивает? Одна наша Тайбе свела бы Его с ума!
— Совсем ты, старый пень, спятил! — гневалась на мужа бабушка Роха. — При чём тут Бог? Я тебя не о Нём спрашиваю. То, что Господь Бог обитает на небесах и что Он не говорун, я и без твоих премудростей знаю. Господь сидит у себя дома, на золотом престоле, в окружении ангелов и херувимов, они ведут с Ним благую беседу, а Он краешком глаза ещё успевает присматривать за всеми нами, грешниками, не слишком ли мы своими неразумными поступками изгадили Его творение — землю? Ночью Отец небесный по местечку с девицами не прогуливается и в потёмках на берегу Вилии с ними не целуется. Оставь Господа в покое! За день Он устаёт не меньше, чем сапожник. Лучше ответь на мой вопрос, где обретается наш ненаглядный сынок Шлеймеле?