Ветер западный - [31]
К восьми утра я набил брюхо так, как не набивал месяцами, а то и годами, однако треть гуся до сих пор лежала на столе кучкой поблескивающей розовой плоти. Я ополоснул руки во дворе, умылся. Ни шороха вокруг, ветра нет как нет. В это время года у нас имеется лишь одна примета для предсказания погоды: если кряж виден, значит, скоро будет дождь; если не виден, дождь уже идет. Кряж был виден, низкое солнце высвечивало его пологую, погруженную в дрему вершину. Обещания утренней зари не исполнились уже наполовину. Облака сгущались, одни на севере, другие на востоке.
Золотой крючок
В оставшиеся утренние часы, пока деревенские были на работах, я занялся своим огородом. Там, где ничего не росло, я, орудуя лопатой, унавозил почву, а там, где что-то произрастало — немного капусты, свеклы, турнепса, морковки, сельдерея, порея, розмарина и редьки, — попытался осушить землю. Вам надо отрастить жабры, сказал я моим растениям. Жаль, миновали деньки сладкого гороха, бобов и фасоли, слив, репы и персиков. И фиг!
Я вбил плетень поглубже в землю, дабы отвадить кроликов, оленей, овец, коров — всех, имеющих брюхо. Роберта Танли, например. Тумбу, как его кличут за глаза. Вырыв пять неглубоких борозд, мигом набухших водой, я побросал туда зеленых бобов. Чуть поздновато — говорят, сажать бобы надо в первый день февральского новолуния, случившийся неделю назад. Но откуда бобам знать, луны они видеть не могут. На вечно заволоченном небе луну вообще никто давно не видел. Бобы я забросал землей, не желавшей рыхлиться, как я ни старался. Закончил я с огородом лишь к десяти часам.
Вышел на улицу, блик солнечного света сгинул, стоило моей ноге ступить на него, а тучные облака опустились ниже. И когда свет внезапно сменился сумраком, мерзкие духи замелькали у меня перед глазами. Они метались, уворачиваясь по-разбойничьи от редких проблесков солнца. Вспенивали воздух с целью обратить его в дождь, поднять воду в реке еще выше и тем самым наложить проклятье на мост, порушив всякую надежду.
Люди устало шли мимо, возвращаясь с наделов домой, чтобы перекусить; слабое солнце почти не отражалось на их заточенных лопатах, а тут и дождь, искрясь, закапал на их одежду и платки, которыми они торопливо повязывали головы. Похожий на хорька Дэвид Хиксон, наш жуликоватый пивовар, волок за собой погнутую борону — сегодня не его день; работник и свирельщик Моррис Холл и его жена Джоан; мальчишка Сэл Прай, а следом неунывающая Бесенок; пахарь Джон Хадлоу и его обожаемый сынок Том; Марион и Джейн Танли, дочки Роберта, обе прядут, валяют сукно, сеют, жнут, подбирая всё до колоска, заготавливают сено, хозяйничают по дому, ухаживают за скотиной; трое парней из приходских сараев: Джон Мерш, Ральф Дрейк, Мики Бракли; Пирс Кэмп, мельник, возвращавшийся от Тауншенда; Адам Льюис, еще один пахарь, на сей раз без своей беременной жены. Я кивал им, и мало кто кивал в ответ. Моррис Холл улыбнулся, желая показать, что он совсем не похож на убийцу. Благочинный, шляющийся по домам и непрестанно вынюхивающий, перепугал людей; “все вы подозреваемые” читалось на его сморщенной физиономии. Если они думали, что я тоже их подозреваю, они ошибались, но я не мог остановиться и заговорить с ними и оттого, возможно, казался угрюмым и враждебным. На самом деле меня тревожили не столько их потайные мысли, сколько мое собственное тайное обжорство. От гуся меня пучило, ряса лоснилась пятнами жира, а из моего рта предательски пахло птичьим мясом.
Я зашагал по дороге к Новому кресту. Здесь, на коротком мощеном отрезке, валялась сломанная тележная ось, отвалившаяся днем ранее; Джон Хадлоу и Пол Бракли обещали убрать ее. Хотя собаки и дождь потрудились над шестью кувшинами молока, пролитого на дороге, вода между брусчаткой до сих пор была сероватой. Вдалеке поющие девичьи голоса. Легкий запах дыма от костра и свежевспаханной земли, кудахтанье кур, сопатое дыхание — так дышит тело, перезимовавшее, отсыревшее и размякшее, словно древесина. Кора тисов, что росли купами вдоль кладбища, побагровела, и по ней шныряли дубоносы.
Выше усадьба Тауншенда, и он сам — маленькая фигурка в отдалении, расхаживающая между пахталками и ведрами, словно в поисках утерянной вещицы. Его коровы стояли в ряд, привязанные к ограде пастбища — усадебного выгула, что в сухую погоду орошали вручную, а в дождливую так же вручную отводили воду, и за этими работами ревностно наблюдали из окон особняка. Молодые доярки пели красивую песню, чтобы молоко текло гуще и быстрее, — Тауншенду кто-то присоветовал такое средство. Еще немного — и он заставит девушек петь на выгуле лунной ночью, обнажив грудь, если ему скажут, что это поможет его злосчастной сырной империи.
Я прихватил с собой два ломтя хлеба и три яблока. Один ломоть для Джона Фискера, он живет сразу за Новым крестом, и у него кровоточит нога — напоролся на борону; второй ломоть Саре, чьи страдания были одновременно незаметнее и тяжелее — никакой безобразной раны на голени, обнажившей кость, только огонь, пожирающий ее изнутри, и нарастающее безумие. Яблок у меня было пять, одно я съел. Последнее оставил дома. И теперь в моих руках было три яблока. Как их поделить на двоих? Если разрезать одно пополам, обе половинки вскоре побуреют, а бурые половинки — не столько яблоки, сколько их огрызки. Не очень-то Господь нас любит, подумают мои подопечные, если это все, что Он может для нас сделать. Надо было принести все четыре, а не приберегать одно для себя, с четырьмя яблоками не возникло бы дилеммы, как разделить три на два, четыре на двоих — дар более щедрый, хотя и не менее жалкий. Я сгреб яблоки в ладонь и прижал их к животу сбоку. Так и стоял столбом, не зная, на что решиться, стреляя глазами то в одну сторону, то в другую: Фискер, Сара, Фискер.
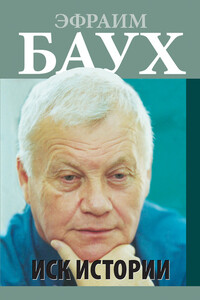
Многие эссе и очерки, составившие книгу, публиковались в периодической печати, вызывая колоссальный читательский интерес.Переработанные и дополненные, они составили своеобразный «интеллектуальный роман».В отличие от многих, поднимающих «еврейскую» тему и зачастую откровенно спекулирующих на ней, писатель-мыслитель не сводит счеты ни с народами, ни со странами, ни с людьми. Но, ничего не прощая и не забывая, он предъявляет самый строгий иск – Иск Истории.
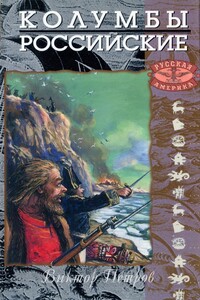
В трилогии Виктора Петрова (1907-2000) «Колумбы российские» повествуется о судьбах русских первопроходцев, основателей Российско-Американской компании, посвятивших свои жизни освоению Русской Америки.Повести «Колумбы российские» и «Завершение цикла» рассказывают о главном правителе русских колоний Аляски Александре Баранове. Герой романа «Камергер двора» — талантливый государственный деятель царский камергер Николай Резанов, с которым связана одна из самых романтичных и трогательных историй того времени — история его любви к пятнадцатилетней испанке Кончите.

«Кто любит меня, за мной!» – с этим кличем она первой бросалась в бой. За ней шли, ей верили, ее боготворили самые отчаянные рубаки, не боявшиеся ни бога, ни черта. О ее подвигах слагали легенды. Ее причислили к лику святых и величают Спасительницей Франции. Ее представляют героиней без страха и упрека…На страницах этого романа предстает совсем другая Жанна д’Арк – не обезличенная бесполая святая церковных Житий и не бронзовый памятник, не ведающий ужаса и сомнений, а живая, смертная, совсем юная девушка, которая отчаянно боялась крови и боли, но, преодолевая страх, повела в бой тысячи мужчин.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
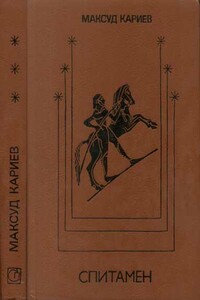
В историческом романе видного узбекского писателя Максуда Кариева «Спитамен» повествуется о событиях многовековой давности, происходивших на земле Согдианы (территории, расположенной между реками Амударьей и Сырдарьей) в IV–III вв. до н. э. С первого дня вторжения войск Александра Македонского в среднюю Азию поднимается широкая волна народного сопротивления захватчикам. Читатель станет соучастником давних событий и узнает о сложной и полной драматизма судьбе талантливого полководца Спитамена, возглавившего народное восстание и в сражении при реке Политимете (Зеравшане) сумевшего нанести первое серьезное поражение Александру Македонскому, считавшемуся до этого непобедимым.

Роман повествует о международном конфликте, вызванном приходом России на Дальний Восток, является как-бы предысторией русско-японской войны.