Ветер западный - [30]
Водрузив гуся на стол, я кое-как ощипал его. По полу разлетелись перья, а по комнате пополз запашок крови. Пупырчатая гусиная кожа обмякла и сморщилась. Засучив рукава, я извлек внутренности. Разделал гуся на куски, и хотя старался сохранить в неприкосновенности части его тела, но, не будучи мясником, порубил и порвал немало гусиных мышц. В итоге я получил скользкую розовую кучу плоти, ничем не походившую на гуся, и, однако, казалось, что эта плоть подрагивает, будто раненая животина, угодившая под колеса повозки. Кости, хрящи и потроха я побросал в ведро — потом их закопаю. Вылил на стол всю воду, что оставалась в умывальном тазу, и собрал кровянистую водицу тряпкой.
Огонь я разжег от свечки; в моем доме горит только одна свеча — я зажигаю ее перед сном, затем ко всенощной в непроглядной тьме меняю на новую, опять меняю к заутрене и потом перед службой первого часа. У нас в Оукэме свечи не переводятся: женщины по вечерам обваливают веревку в овечьем жиру и кромсают ее на куски, они наловчились управляться с этим одной рукой, а другой стряпают или прядут, штопают или укачивают ребенка. И хвастают, что могут “валять свечки” даже во время соития, а мужья ничего и не замечают. В ризнице залежи свечей высятся до потолка, еще больше их в притворе; моя паства охотно жертвует дармовые, по сути, свечки заради благополучного перемещения души после смерти. Если в церкви вспыхнет пожар, на свечном жиру гореть она будет долго, очень долго.
Ты слишком многого хочешь, сказал гусь, когда я подцепил его вертелом. Я пригрозил ему огнем, который поначалу дымил, а затем разгорелся чистым пламенем. Не одного, так другого, постоянно чего-нибудь хочешь. Хочешь свечей, а потом жалуешься: их слишком много. Я угомонил его, сунув кусок на вертеле в огонь. Разве я жаловался? Я только сказал, что у нас очень большой запас свечей. Ты назвал свечи дармовыми. Тут я сообразил, что гусь говорит голосом Тауншенда, ведь это был гусь Тауншенда, выращенный им и напичканный воззрениями хозяина. Тауншенд хотел слишком мало, в строительстве моста он совсем не помогал и не понимал, почему бы нам и впредь не трудиться от зари до зари и не жить в бедности. Цвета и запахи благоденствия его пугали. Я съел кусок гуся, понятия не имея, к какой части гусиного тела тот принадлежал, но мясо было маслянистым, сочным и вкусным.
Затем поджарил два куска сразу, чтобы лишить гуся дара речи. Я жарил и ел, покуда в меня влезало, жарил на вертеле, в сковороде и в котле, лишь бы поскорее покончить с этим. Глупая радость от сытости переполняла меня, лучше разок наесться мясом, чем жевать хлеб всю жизнь. Одна порция — и кому нужен урожай с целого поля пшеницы, обработанной до соломы и мякины. Пришлось приоткрыть дверь сперва до узкой щелочки, потом пошире, чтобы развеять дым от огня и брызжущего жира. Я опасался, а вдруг кто-нибудь увидит меня, но еще сильнее я боялся закашляться от дыма и вместе с кашлем вытряхнуть изо рта эту нежную гусиную плоть.
“Да, люди в нашем приходе прижимисты”, — я поймал себя на том, что мысленно возражаю неведомо кому, обороняясь неведомо от чьего воображаемого упрека. Рвутся ли они сложить свою мелочишку в общий котел, чтобы построить мост или проложить дорогу, либо заняться промыслом, который сделает их в десять раз богаче? Либо превратить нашу церковь в более устойчивую и величественную ладью, что переправляет души на небеса? Ничуть, они готовы поделиться только свечками и думают, что попадут на небо, набив церковь побрякушками и подношениями вроде той мелочевки, что зяблик приносит своему выводку, — поэтому нам не хватает окон, а резных наличников у нас и того меньше, зато свечных огоньков столько, сколько, наверное, нигде не водится, а также сохлых почек, орешков и насекомых, так что заезжему гостю может показаться, будто ветер подмел лесную подстилку и принес собранное к алтарю. И порою я задаюсь вопросом, а не потонет ли эта ладья, наша церковь, от перегруза, прежде чем доставит нас куда-либо? Мне бы хотелось, чтобы она плыла, а не шла ко дну, и неужели я хочу слишком многого?
Трехмачтовые галеоны, эти бесстрашные пахари моря, отгружают сахар в портах, что находятся всего в тридцати милях от нас. А Ньюман видел серебряные монетки, падавшие каплями из пазов на обшивке, — капавшие, как вода из протечки. В новом соборе в Йорке на огромном восточном окне рассказана вся история человечества от начала и до конца, до Апокалипсиса, при том что на восходе солнца витраж выглядит праздничным. У нас же порушенный мост и церковь, набитая освященным хламом… Разве я многого хочу?
Боюсь, гусь меня не слушал. Даже с открытой дверью в доме было не продохнуть от дыма, глаза мои опухли и покраснели, и живот разболелся, словно я проглотил камень и тот застрял у меня в подбрюшье. Еще пара кусков — и я должен остановиться, всего парочка кусочков. Пастве разрешается есть мясо до вторника, если, конечно, они раньше его не оприходуют, но мое голодание начиналось с ночи сегодняшнего понедельника. С наступлением темноты гусь выдворяется из дома, и все, что я не съем, пропадет, и тем самым я выкажу пренебрежение щедрой милостью Господней. Нет, это было бы невыносимо. И я нанизывал на вертел кусок за куском, прикрывая глаза от дыма. А вы бы поступили иначе, пусть даже подобные действия сильно смахивают на жадность? Часть жареного мяса я завернул в тряпицу, с тем чтобы отдать Картеру. Сесили Тауншенд не обидится, да и кто ей об этом расскажет. Чувство голода, с которым я проснулся, обычно мимолетное, на сей раз долго не проходило, а потом я просто наслаждался и жадничал, но удовольствие и алчность в конце концов тоже меня покинули.

Пугачёвское восстание 1773–1775 годов началось с выступления яицких казаков и в скором времени переросло в полномасштабную крестьянскую войну под предводительством Е.И. Пугачёва. Поводом для начала волнений, охвативших огромные территории, стало чудесное объявление спасшегося «царя Петра Фёдоровича». Волнения начались 17 сентября 1773 года с Бударинского форпоста и продолжались вплоть до середины 1775 года, несмотря на военное поражение казацкой армии и пленение Пугачёва в сентябре 1774 года. Восстание охватило земли Яицкого войска, Оренбургский край, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее и Нижнее Поволжье.

Действие романа Т.Каипбергенова "Дастан о каракалпаках" разворачивается в середине второй половины XVIII века, когда каракалпаки, разделенные между собой на враждующие роды и племена, подверглись опустошительным набегам войск джуигарского, казахского и хивинского ханов. Свое спасение каракалпаки видели в добровольном присоединении к России. Осуществить эту народную мечту взялся Маман-бий, горячо любящий свою многострадальную родину.В том вошли вторая книга.
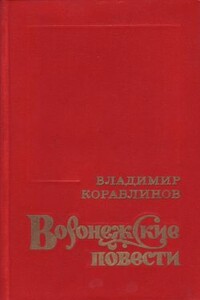
«… до корабельного строения в Воронеже было тихо.Лениво текла река, виляла по лугам. Возле самого города разливалась на два русла, образуя поросший дубами остров.В реке водилась рыба – язь, сом, окунь, щука, плотва. Из Дона заплывала стерлядка, но она была в редкость.Выше и ниже города берега были лесистые. Тут обитало множество дичи – лисы, зайцы, волки, барсуки, лоси. Медведей не было.Зато водился ценный зверь – бобер. Из него шубы и шапки делали такой дороговизны, что разве только боярам носить или купцам, какие побогаче.Но главное – полноводная была река, и лесу много.

Как детский писатель искоренял преступность, что делать с неверными жёнами, как разогнать толпу, изнурённую сенсорным голодом и многое другое.

«… «Но никакой речи о компенсации и быть не может, – продолжал раздумывать архиепископ. – Мать получает пенсию от Орлеанского муниципалитета, а братья и прочие родственники никаких прав – ни юридических, ни фактических – на компенсацию не имеют. А то, что они много пережили за эти двадцать пять лет, прошедшие со дня казни Жанны, – это, разумеется, естественно. Поэтому-то и получают они на руки реабилитационную бумагу».И, как бы читая его мысли, клирик подал Жану бумагу, составленную по всей форме: это была выписка из постановления суда.