Узник гатчинского сфинкса - [91]
— Православные! Станишники! Мужики киргизские! Разве так встречают сына царского? Со свечами встречать надоть-то, с горящими!..
И пока в городе хромой Фохт прилаживал на Большой Прожектированной свои плошки, степь по Ялуторовскому тракту на несколько верст загорелась живым млечным жгутом. Правда, кортеж с высоким гостем припозднился, а потому, когда, наконец, проскакал передовой фельдъегерь, свечи, увы, уже сгорели. Да ведь кто знал, что трех телег не хватит?..
Не спит город. Настороже. Но тих, покоен. Дом окружного судьи, будто нежилой, только пепельным пятном угадываются окна второго этажа, где почивает его высочество, наследник российского престола. Городничий Иван Федорович Бурзанкевич, поеживаясь от тонкой предутренней прохлады, со вздохом перекладывает холодные ножны сабли с колена на колено, вытягивает вдоль бревна затекшие ноги, шепчет: «Господи, убери, пронеси!.. Ни гнева, ни милости!..»
Александр Иванович Дуранов, главная полицейская власть округа, мелко косится на него, в насмешке прикусывает губы. Его мысли заняты домом напротив: там из-за длинных тяжелых турецких штор косыми струями бьет длинный свет. Они все там! Все, как есть! Какая ирония судьбы: второй раз они сходятся так близко. Тогда двадцать пятого, когда по Петровской площади заиграла шрапнель, шестилетний царевич от страха забился под кровать в угловой гостиной Зимнего. А теперь вот… что там у них? Зачем? К чему клонят?..
Она ждала его. Ни тогда, ни после она не умела, да и не смогла бы хоть как-то правдоподобно объяснить то смутное и вместе с тем почти осязаемо-реальное предчувствие, которым было переполнено все ее существо. Оно застало ее в их маленькой гостиной, у распятия, когда, уложив детей, она прошла в узкую белую дверь и стала на коврике перед лампадкой. И именно в тот момент, когда она подняла голову и взглянула на исстрадавшийся лик Спасителя, внезапное понимание чего-то тревожно-светлого, необъяснимо-желанного до дрожи охватило ее. «Он придет!» Она тут же поспешно встала с ковра и решительно вышла во двор. Было тихо и глухо. Какая-то темная птица с легким шумом пронеслась над головой; в стойле фыркнула и переступила ногами лошадь. Она вернулась к детям, села у окна. Она еще несколько раз выходила во двор, смотрела на звезды, вслушивалась в темноту. Наконец, ее как будто кто-то толкнул. Она поднялась, растерянно огляделась: дети спали, тихо светлело окно. «Кажется, я заснула!» — с беспокойством подумала она и, подняв сползшую с плеч пелеринку, выбежала на крыльцо.
Улица была прозрачно-светла, пустынна и чиста. Она не узнавала ее: покрашенные заборы, новые мостки над канавами, красные и голубые ставни с белыми наличниками, веселая оранжево-желтая вязь крылечек и железных флюгеров на крышах. А подвитые чернотою, слегка наклоненные внутрь тротуара полуторааршинные столбы коновязей с белыми макушками более походили на усохших богомольных старушек, группками спешащих к обедне. И вдобавок ко всему так выметена, так выметена, что Анна вдруг жарко покраснела, как будто ее уличили в чудовищной лжи. «Ах, как нехорошо обманывать цесаревича…» — подумала она. И в это время в проулке послышался стук колес и показались дрожки городничего. И тотчас же, едва дрожки вывернулись из-за угла, она узнала его: темный дорожный сюртук, высокая шляпа, белый платок на шее.
— Приехали, ваше превосходительство! — почему-то довольно тихо проговорил кучер, останавливаясь у крыльца.
«Аннушка!» — сказал или это ей послышалось?
Он стоял внизу, она — наверху. Их разделяли три ступеньки…
— Может, в дом… Кофею?..
— Нет, нет! — коротко сказал Жуковский. — Такая ночь!.. И кофей, и чай!.. Лизавета Петровна потчевала… — На секунду он закрыл глаза и провел по лицу белой ладонью.
— Голова трещит! Такая ночь!..
Анна вдруг потерялась, она не знала, как вести себя с ним. Все, что она наметила сказать ему, о чем хотела спросить, она забыла. И потом он был какой-то другой, совсем не тот, кого она помнила и знала и который все эти длинные годы жил как бы отдельно, помимо ее сознания и воли, и все-таки жил в ее памяти и, наверное, в сердце тоже. И все это было так странно и так непонятно. И теперь вот она, жаждавшая этой встречи, совсем смешалась и не знала, куда повернуться, что сделать. Она стояла перед ним с исказившимся от страдания лицом, кусая губы, опустив глаза, в то время как пальцы ее, длинные и худые, перекручивали и рвали нежнейшие золотистые блонды пелеринки.
— Простите!.. — Глаза ее на миг вскинулись и, как благодатный свет, объяли его помятое, усталое лицо, высокий римский лоб и тронутые в теплой улыбке полные губы. Жуковский легко сжал ее руку выше локтя и чуть подтолкнул, как бы повел за собою. И она пошла. Они обошли крыльцо, миновали забор и почти машинально, не спрашивая, Анна открыла садовую калитку. Василий Андреевич рассказывал о проведенной у Нарышкиных ночи, говорил о наследнике, о встречах в Екатеринбурге, в Тобольске. Неожиданно спрашивал о чем-то Анну и снова говорил сам, и опять спрашивал, а временами также неожиданно замолкал, задумывался.
Сад, еще недавно размытый тенями, теперь проявился. Он источал свежесть и прохладу. Вверху, боком вдоль лип, прошлись невидимые сгустки воздуха, отчего листья мелко затрепыхали, издавая ровное шуршание, как если бы женщина расчесывала гребнем свои длинные волосы. Набухшие за ночь сыростью дорожки скрадывали шаги, и проступающий от них горьковатый запах плесени уже начинал забиваться запахами цветущей акации и вишенника.
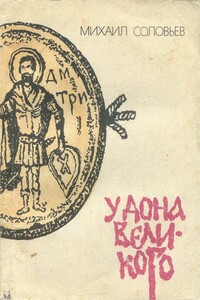
Повесть «У Дона Великого» — оригинальное авторское осмысление Куликовской битвы и предшествующих ей событий. Московский князь Дмитрий Иванович, воевода Боброк-Волынский, боярин Бренк, хан Мамай и его окружение, а также простые люди — воин-смерд Ерема, его невеста Алена, ордынские воины Ахмат и Турсун — показаны в сложном переплетении их судеб и неповторимости характеров.
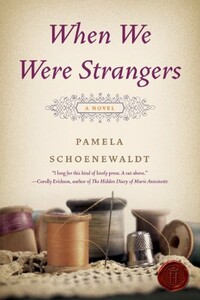
«Если ты покинешь родной дом, умрешь среди чужаков», — предупреждала мать Ирму Витале. Но после смерти матери всё труднее оставаться в родном доме: в нищей деревне бесприданнице невозможно выйти замуж и невозможно содержать себя собственным трудом. Ирма набирается духа и одна отправляется в далекое странствие — перебирается в Америку, чтобы жить в большом городе и шить нарядные платья для изящных дам. Знакомясь с чужой землей и новыми людьми, переживая невзгоды и достигая успеха, Ирма обнаруживает, что может дать миру больше, чем лишь свой талант обращаться с иголкой и ниткой. Вдохновляющая история о силе и решимости молодой итальянки, которая путешествует по миру в 1880-х годах, — дебютный роман писательницы.
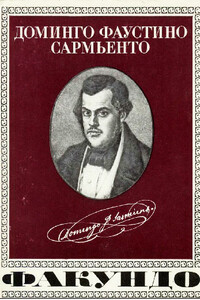
Жизнеописание Хуана Факундо Кироги — произведение смешанного жанра, все сошлось в нем — политика, философия, этнография, история, культурология и художественное начало, но не рядоположенное, а сплавленное в такое произведение, которое, по формальным признакам не являясь художественным творчеством, является таковым по сути, потому что оно дает нам то, чего мы ждем от искусства и что доступно только искусству,— образную полноту мира, образ действительности, который соединяет в это высшее единство все аспекты и планы книги, подобно тому как сплавляет реальная жизнь в единство все стороны бытия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основу романов Владимира Ларионовича Якимова положен исторический материал, мало известный широкой публике. Роман «За рубежом и на Москве», публикуемый в данном томе, повествует об установлении царём Алексеем Михайловичем связей с зарубежными странами. С середины XVII века при дворе Тишайшего всё сильнее и смелее проявляется тяга к европейской культуре. Понимая необходимость выхода России из духовной изоляции, государь и его ближайшие сподвижники организуют ряд посольских экспедиций в страны Европы, прививают новшества на российской почве.