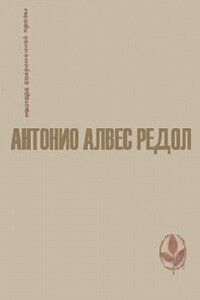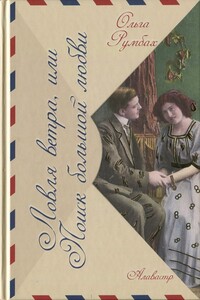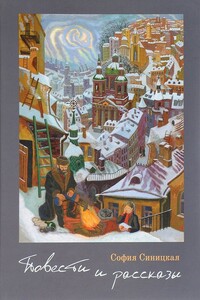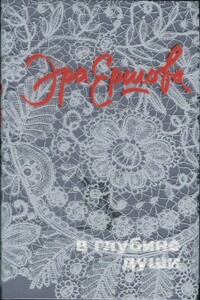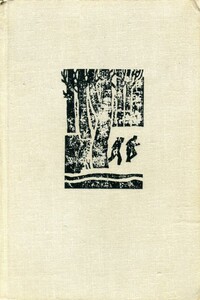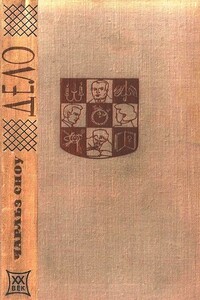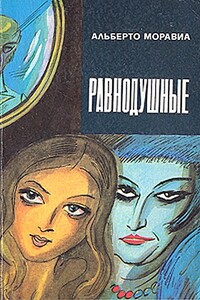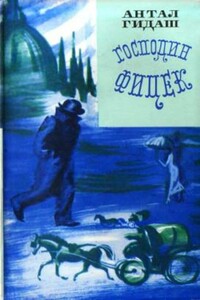Он прервал меня упавшим голосом:
— Какой из меня теперь храбрец. Был, да весь вышел.
— Я знаю, что ты сможешь, — настаивал я, словно надеясь придать ему силы своим упорством. — Ты должен ей сказать, что ей лучше забыть тебя. Пусть она считает себя свободной.
Мои слова были для него пыткой. Я видел это. Лицо его исказилось от боли, по щекам текли слезы.
Он опустил голову, потом кивнул в знак согласия и проговорил чуть слышно:
— Да, ничего другого мне не остается.
Он еле сдерживал рыдания. Я положил руку ему на плечо, он грубо схватил ее и сразу же пожал с нежностью. Потом снова поднял на меня глаза и вдруг закричал, — он не мог больше удерживать в себе этот крик:
— Но как же я смогу жить здесь без ее писем? Скажите мне — как?
(Я невольно спросил себя: «А те, другие, как они повели бы себя на его месте? Они, толкнувшие его на этот путь… О чем были бы их мысли?»)
Я вырвал у него руку и вышел. В камере было холодно. Я постоял у зарешеченного окна, наблюдая, как гаснут последние лучи солнца.
Я продолжал ощущать пожатие его руки, и в этом пожатии была заключена целая вселенная вопросов, на которые человечество должно дать ответ.