Тотальность и бесконечное - [98]
Произвольная свобода прочитывает упрек в свой адрес в глазах, смотрящих мне в лицо. Она апологетична, то есть обращается уже из своего «я» к суду другого, который сама поддерживает и который, таким образом, не может ранить ее своим ограничением. Так свобода обнаруживает свою оппозиционность понятийности, для которой любая инаковость является оскорблением. Свобода не является урезанной, или, как принято говорить, конечной, causa sui. Поскольку, в случае ее частичного отрицания, она оказалась бы полностью уничтоженной. Так как моя позиция является апологетической, мое бытие не может явить себя в своей реальности: оно не равно своей явленности в сознании.
Однако мое бытие тем более не является тем, чем я являюсь для других с точки зрения безличного разума. Если «я» свести к его роли в истории, оно останется в той же мере непризнанным, в какой было ложным, являя себя в собственном сознании. Существование в истории заключается в том, чтобы вывести мое сознание за пределы моего «я» и разрушить мою ответственность.
Человеческая бесчеловечность, когда сознание находится за пределами «я», коренится в осознании насилия — внутри «я». Отказ от своей пристрастности как индивида осуществляется как бы силой тирании. Однако, если пристрастность индивида, понимаемая как сам принцип его индивидуации, является одновременно и принципом отсутствия связности, то с помощью какого волшебства простое сложение бессвязностей может привести к рождению связного безличного дискурса, а не к беспорядочному гомону толпы? Ведь моя индивидуальность это нечто совсем иное, чем та животная пристрастность, к которой попытались бы добавить разум, выведенный из противоречий враждебных друг другу сил, свойственных животному началу. Своеобразие моей индивидуальности существует на уровне ее разума, она — апология, то есть личностный дискурс «я», обращенный к другим. Мое бытие творит себя, творя себя в дискурсе для других, оно есть то, что обнаруживает себя перед другим и вместе с тем участвует, присутствует в собственном проявлении. Я существую в истине, созидая себя в истории, под знаком приговора, который выносится в моем присутствии, то есть оставляя за мной слово. Выше мы показали, что этот апологетический дискурс получает свое завершение в доброте. Отличие между «явить себя в истории» (без права на слово) и «явить себя другому, присутствуя в момент собственной явленности». есть вместе с тем отличие моего политического бытия от бытия религиозного.
В моем религиозном бытии я пребываю в истине. Делает ли невозможной эту истину насилие, вводимое в бытие смертью?
Не заставляет ли насилие со стороны смерти умолкнуть субъективность, без которой истина не могла бы ни заявить о себе, ни вообще существовать, — или, если прибегнуть к слову, столь часто используемому в данном исследовании, охватывающему понятия «являть себя» и «быть», — без которой истина не могла бы производить себя'? Разве что субъективность могла бы не только согласиться на молчание, возмущенная насилием разума, повергающим апологию в безмолвие, но и без всякого насилия отказаться от самой себя, добровольно остановить апологию — и это не было бы ни самоубийством, ни смирением: это была бы любовь. Подчинение тирании, покорность всеобщему закону, даже разумному, но останавливающему апологию, скомпрометировало бы истину моего бытия.
Теперь нам следует определить тот план, который одновременно и предполагает и трансцендирует эпифанию Другого в лице, план, где «я» обретается вне смерти и оказывается выше возврата к себе.
Это — план любви и плодовитости, где субъективность полагает себя в зависимости от этих феноменов.
А. Двойственность любви
Метафизическое событие трансценденции — приятие Другого и гостеприимство, Желание и язык — не совершается как любовь. Однако трансценденция дискурса связана с любовью. Мы покажем, каким образом через любовь трансценденция распространяется одновременно и дальше, и ближе, чем язык.
Имеет ли любовь иное назначение, кроме того, что выражено словом «личность»? У личности есть в этом отношении привилегия: любовное устремление бывает направлено на Другого, на друга, ребенка, брата, возлюбленную, родителей. Однако вещь, абстракция, книга также могут быть предметами любви. Ибо в сущностном своем аспекте любовь как трансценденция устремляется к Другому, выводит нас за пределы имманентности: она обозначает движение, посредством которого бытие ищет то, с чем оно связало себя еще до того, как начало поиск, и вопреки экстериорности, где оно это находит. Полный риска поиск оказывается и предопределением, выбором того, что не было избрано. Любовь как отношение к Другому может сводиться к этой врожденной имманентности, лишаться трансценденции, стремиться исключительно к бытию, имеющему с ней одну природу, к родственной душе, представать как кровосмешение. Приведенный в «Пире» Платона миф Аристофана о том, что любовь соединяет две половины ранее единого существа, толкует это рискованное событие как возвращение к своей первоначальной природе. Наслаждение как бы подтверждает такое толкование. Оно выводит на свет двойственность события, происходящего на грани между имманентным и трансцендентным. Это желание — псе возобновляющееся, нескончаемое движение к будущему, которое — все еще не-будушее — разбивается, удовлетворяется как самая эгоистическая, самая жестокая из всех потребностей. Как если бы безмерная отвага трансценденции любви оплачивалась ценой отбрасывания ее по сю сторону потребности. Однако даже это по сю сторону, в силу глубин постыдного, к которым оно ведет, в силу тайного воздействия, оказываемого им на все возможности бытия, свидетельствует об исключительной отваге. Любовь остается превращенным в потребность отношением к другому; эта потребность предполагает еще тотальную трансцендирующую экстериорность другого, любимого. Но любовь устремляется и за пределы того, кого она любит. Вот почему от лица исходит едва заметный свет, идущий с «той стороны», со стороны того, чего еще нет, из будущего, которое все еще не будущее и находится дальше всего возможного. Любовь, будучи наслаждением тем, что трансцендирует, почти противоречивым, не говорит о себе правду ни на языке эротики, где она понимается как чувство, ни на языке духовности, возвышающем ее до жажды трансцендентного. Возможность Другого представать в качестве объекта потребности, сохраняя при этом свою инаковость, или возможность иметь в своем распоряжении Другого, располагаться одновременно и по эту и по ту сторону дискурса — такая позиция по отношению к собеседнику, которая достигает и превосходит его, эта одновременность потребности и желания, вожделения и трансценденции, соприкосновение благовидного и постыдного составляют самобытность эротики, в этом отношении преимущественно двусмысленной.

Эмманюэль Левинас (1905-1995) — французский философ, моралист, сформулировал в новом виде всеобщую нравственную максиму, или императив, обогатив ее глубоким смысловым содержанием, выражающим назревшие духовные потребности эпохи. Э. Левинас разрабатывал этическую концепцию подлинных отношений, которые затронули, преобразовали бы человеческое общение, культуру в целом; в основе нравственно-метафизических принципов учения Э. Левинаса — критический анализ духовной ситуации современного западного общества. Развивая традиции, восходящие к М.

Впервые на русском языке публикуются две работы выдающегося французскою философа Эммануэля Левинаса (1906-1996), творчество которою посвящено задаче гуманизации современной философской мысли.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга посвящена интерпретации взаимодействия эстетических поисков русского модернизма и нациестроительных идей и интересов, складывающихся в образованном сообществе в поздний имперский период. Она охватывает время от формирования группы «Мир искусства» (1898) до периода Первой мировой войны и включает в свой анализ сферы изобразительного искусства, литературы, музыки и театра. Основным объектом интерпретации в книге является метадискурс русского модернизма – критика, эссеистика и программные декларации, в которых происходило формирование представления о «национальном» в сфере эстетической.
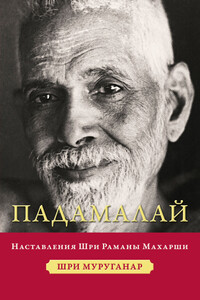
Книга содержит собрание устных наставлений Раманы Махарши (1879–1950) – наиболее почитаемого просветленного Учителя адвайты XX века, – а также поясняющие материалы, взятые из разных источников. Наряду с «Гуру вачака коваи» это собрание устных наставлений – наиболее глубокое и широкое изложение учения Раманы Махарши, записанное его учеником Муруганаром.Сам Муруганар публично признан Раманой Махарши как «упрочившийся в состоянии внутреннего Блаженства», поэтому его изложение без искажений передает суть и все тонкости наставлений великого Учителя.

Автор книги профессор Георг Менде – один из видных философов Германской Демократической Республики. «Путь Карла Маркса от революционного демократа к коммунисту» – исследование первого периода идейного развития К. Маркса (1837 – 1844 гг.).Г. Менде в своем небольшом, но ценном труде широко анализирует многие документы, раскрывающие становление К. Маркса как коммуниста, теоретика и вождя революционно-освободительного движения пролетариата.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Опубликовано в монографии: «Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте». М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 522–572.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Приведены отрывки из работ философов и историков науки XX века, в которых отражены основные проблемы методологии и истории науки. Предназначено для аспирантов, соискателей и магистров, изучающих историю, философию и методологию науки.