Тотальность и бесконечное - [99]
Б. Феноменология эроса
Любовь обращена к Другому, она нацелена на него в его слабости. Слабость не является здесь низшей ступенью какого-либо свойства, относительным недостатком определения, общего для «я» и для Другого. Предшествующая проявлению свойств, она характеризует самое инаковость. Любить значит тревожиться за другого, быть подмогой в его слабости. В этой слабости, как в лучах солнца, предстает Любимый, Любимая. Эпифания Любимого — женское начало — не добавляется к объекту и к Ты, заранее данным или встретившимся в среднем роде (единственный род, который признает формальная логика). Эпифания Любимой составляет единое целое с ее свойством нежности. Феномен нежности состоит в исключительной хрупкости, в незащищенности. Нежность проявляется на грани между бытием и небытием как мягкое тепло — когда бытие растворяется в сиянии, как «слабый румянец ланит» нимф в «Послеполуденном отдыхе Фавна», который «парит в воздухе, застывшем в глубоком сне», — лишаясь индивидуальных черт и освобождаясь вообще от собственной тяжести бытия, обессилевшая, мимолетная, уходя в себя в самой своей явленности [89]. В этом бегстве Другой остается Иным, чужим в мире, слишком грубом, слишком оскорбительном для него.
И однако эта чрезмерная хрупкость сама располагается на грани «бесцеремонного», «откровенного», на грани «лишенной смысла» грубой плотности, непомерной сверхматериальности. Превосходная степень лучше всяких метафор выражает пароксизмы материальности. Сверхматериальность не означает ни простого отсутствия человека среди нагромождения скал и песков какого-нибудь лунного пейзажа, ни материальности, переполнившей самое себя, зияющей сквозь свои распавшиеся формы, предстающей в руинах и язвах: она свидетельствует о выставленной напоказ наготе избыточного присутствия, идущего из некой лад и, оставляющего за собой искренность лица, — одновременно оскверняющая и оскверненная, словно она нарушила некий тайный запрет. Скрытое по своему существу устремляется к свету, не становясь смыслом. Это не небытие, а то, чего еще нет. Речь идет не об ирреальности, открывающейся на пороге реальности в качестве возможности, которую можно постичь, и не о сокрытом, свидетельствующем о том, что с бытием произошел некий «гносеологический» казус. «Еще не быть» не означает ни того, ни другого; сокрытость — такова сущность этого отсутствия сущности. Подполье непристойностью своего существования свидетельствует о ночной жизни, которая не просто отлична от жизни дневной, будучи жизнью без дневного света: подполье не является простой интериорностью одинокой жизни в ее интимности, стремящейся выразить себя, чтобы избежать вытеснения. Оно взывает к целомудрию, которое само же осквернило, не сумев превзойти его. Тайное являет себя, не являясь, и это не потому, что оно явило бы себя либо наполовину, либо осторожно, либо смутно. Осквернение определяется именно одновременностью тайного и явного. Тайное являет себя двусмысленно. Но именно осквернение порождает двусмысленность — по существу своему эротическую, — а не наоборот. Целомудрие, непобедимое в любви, составляет ее пафос. Выставленная напоказ чувственная нагота всегда рискует быть уличенной в бесстыдстве; однако такого риска нет, если речь идет об обычном, нейтральном восприятии наготы, которое, например, свойственно врачу при осмотре больного. То, каким образом эротическая нагота проявляет себя — предъявляет себя и существует, — дает представление об изначальных феноменах бесстыдства и осквернения. Открываемые ими моральные перспективы оказываются уже в особом измерении, которое полагает этот непомерный эксгибиционизм как порождение бытия.
Отметим, между прочим, что эта глубина тайного измерения нежности не позволяет ей быть отождествленной с ласковостью, на которую она тем не менее похожа. Противоречивое, двусмысленное единство этой хрупкости и этой основательности не-значимого, основательности более весомой, чем тяжесть бесформенной реальности, мы называем женственностью.
Перед лицом этой женственной слабости позиция любящего — не просто сострадание и не безучастность: он погружается в упоение лаской.
Ласка как прикосновение — это чувственность. Однако ласка превосходит чувственное. Речь идет не о том, что она ощущает больше, чем свой предмет, что она распространяется дальше того, на что способны другие чувства, или питается чем-то высшим, неземным, сохраняя при этом в своем отношении к ощущаемому неутоленное чувство голода, направленное на пищу, которая ему обещана и дается и которая усугубляет голод, — словно ласка поддерживается собственной неутоленностью. Особенность ласки в том, что она ничем не насыщается, она домогается того, что, постоянно освобождаясь от своей формы, устремляется навстречу будущему, — все еще не наступающему, к тому, что ускользает, как если бы его еще не выло. Ласка ищет, стремится. Это интенциональность не обнаружения. а поиска, движение к невидимому. В определенном смысле ласка выражает чувство любви, но страдает от того, что неспособна мы сказать это. Она жаждет выражения — и эта жажда постоянно усиливается. Так ласка рвется за свои пределы, за пределы сущего — даже будущего, которое, именно как сущее, уже стучится в двери бытия. Возбуждающее ее желание, удовлетворяясь, вновь возрождается, питаясь в некотором роде тем, чего еще нет, и свидетельствуя о том, что чистота женственного всегда существует незапятнанной. Дело не в том, что ласка стремится овладеть чуждой ей свободой, сделать ее своим объектом или вырвать у нее согласие. Ласка ищет, независимо от согласия или сопротивления этой свободы, то, него еще нет, то, что «меньше, чем ничто», что находится по ту сторону будущего, — в изоляции и бездействии, ничем не напоминающем бездействие возможного, того, что можно было бы предвидеть. Осквернение, сопровождающее ласку, вполне соответствует необычности такого рода отсутствия. Это отсутствие иного рода, нежели пустота абстрактного небытия: отсутствие, соотносящееся с бытием, но соотносящееся по-своему, как если бы отсутствующие измерения его «будущего» не были будущим, оставаясь все на одном уровне, в одном виде. Предвосхищение улавливает возможное; то же, что ищет ласка, не находится в плане и в свете возможного. Телесное — нежное по сути и отвечающее ласке — это не тело как объект физиолога и не собственное тело субъекта, когда он говорит «я могу»; это и не тело-выражение, помощь в собственном проявлении, то есть лицо. В ласке, в этом, с одной стороны, все еще чувственном отношении, тело уже освобождается от самой своей формы, чтобы предстать в качестве эротической наготы. В телесном характере нежности тело лишается своего статуса сущего.

Эмманюэль Левинас (1905-1995) — французский философ, моралист, сформулировал в новом виде всеобщую нравственную максиму, или императив, обогатив ее глубоким смысловым содержанием, выражающим назревшие духовные потребности эпохи. Э. Левинас разрабатывал этическую концепцию подлинных отношений, которые затронули, преобразовали бы человеческое общение, культуру в целом; в основе нравственно-метафизических принципов учения Э. Левинаса — критический анализ духовной ситуации современного западного общества. Развивая традиции, восходящие к М.

Впервые на русском языке публикуются две работы выдающегося французскою философа Эммануэля Левинаса (1906-1996), творчество которою посвящено задаче гуманизации современной философской мысли.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
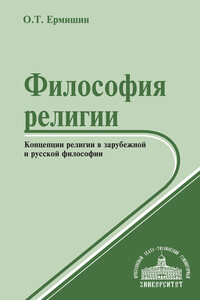
Учебное пособие подготовлено на основе лекционного курса «Философия религии», прочитанного для студентов миссионерского факультета ПСТГУ в 2005/2006 учебном году. Задача курса дать студентам более углубленное представление о разнообразных концепциях религии, существовавших в западной и русской философии, от древности до XX в. В 1-й части курса рассмотрены религиозно-философские идеи в зарубежной философии, дан анализ самых значительных и характерных подходов к пониманию религии. Во 2-й части представлены концепции религии в русской философии на примере самых выдающихся отечественных мыслителей.

Опубликовано в монографии: «Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте». М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 522–572.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Приведены отрывки из работ философов и историков науки XX века, в которых отражены основные проблемы методологии и истории науки. Предназначено для аспирантов, соискателей и магистров, изучающих историю, философию и методологию науки.

С 1947 года Кришнамурти, приезжая в Индию, регулярно встречался с группой людей, воспитывавшихся в самых разнообразных условиях культуры и дисциплины, с интеллигентами, политическими деятелями, художниками, саньяси; их беседы проходили в виде диалогов. Беседы не ограничиваются лишь вопросами и ответами: они представляют собой исследование структуры и природы сознания, изучение ума, его движения, его границ и того, что лежит за этими границами. В них обнаруживается и особый подход к вопросу о духовном преображении.Простым языком раскрывается природа двойственности и состояния ее отсутствия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.