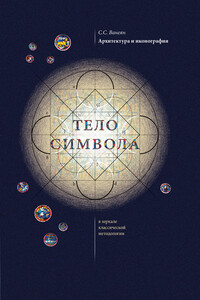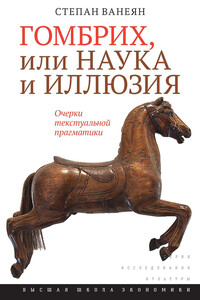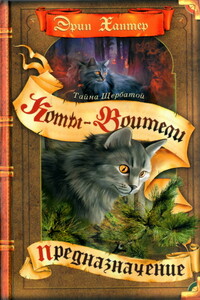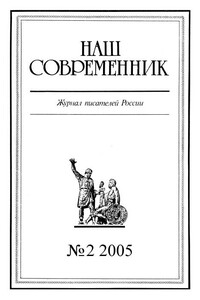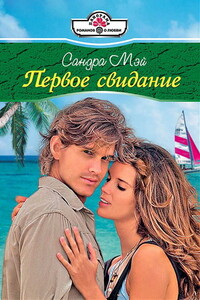В далеком 1968 году появилась книга Н.-Л. Прака «Язык архитектуры. Вклад в теорию архитектуры» (Prak, Niels Luning. Te Language of Architecture: A Contribution to Architectural Teory. Te Hague-Paris), которая не утратила при всей своей, казалось бы, незамысловатости ни капли актуальности и спустя 40 лет. Причина тому – в особой теоретической модальности, предполагающей уважение ко всему предыдущему научному опыту и, как следствие, тщательный учет и усердное применение всех современных на ту пору и животрепещущих теоретических парадигм.
Мы найдем в этой книге, например, вскользь брошенную формулировку о витрувианской триаде как не просто трех измерениях архитектуры, а трех мирах, трех царствах, с которыми имеет дело архитектор… Читатель, ознакомившись с «Аналитической частью» книги, будет знать и об эвристической природе символизма, и об истории культуры как истории коллективного сна, истории человеческих грез, о творчестве архитектора как поиске сказочной страны… Разговор о закономерностях человеческого восприятия не обойдется без подробного обсуждения основных гештальт-принципов, о паттернах перцепции, конструирующих реальность… Святая святых архитектурной теории – пространство – описывается во всей своей сложнейшей, причудливой и одновременно предельно реалистической типологии, знающей кроме физического пространства и пространства концептуальные, и поведенческие, и перцептуальные, и экзистенциальные… Проблемы интерпретации архитектурного символизма подразумевают обсуждение различий и пересечений денотата и коннотата, особенностей взаимодействия символа и «доминантного контекста»… Касаясь собственно художественных образов, автор не скрывает своей осведомленности в их эвокативных функциях, отмыкающих и стимулирующих эмоциональные реакции… Говоря о природе архитектуры, Прак со всей конкретностью, как о чем-то непреложном и обязательном, говорит о «месте» как экзистенциально-сакральном первоэлементе архитектурного целого, обретающего форму пространства благодаря взаимодействию феноменальных и физических структур, которые, дабы стать предметом понимания, прелагаются в структуры символические, стимулирующие прежде всего оценку, и уже потом знание… Кроме того, к архитектуре можно применять категорию «честности» и недвусмысленно от нее эту честность и требовать.
А мы позволили себе описать теоретический аппарат этой весьма показательной книги исключительно потому, что честность и прозрачность как критерии оценки в еще большей степени приложимы и к архитектуроведению, и критики в ее актуальном состоянии истории, и в ее «мнезическом» состоянии. Дабы приступать к произведению и посягать на его смысл, необходимо владеть всем концептуальным, методологическим и идейным инструментарием, всей парадигматикой, обретающей синтагаматическое измерение в текстуальной или дискурсивной активности тех, кого именуют искусство– или архитектуроведами.
Собственно в этом заключен и пафос, и замысел предлагаемого сочинения: составить своего рода тематический и критический компендиум некоторых способов обращения с архитектурой, взятой в ее наиболее, если так можно выразиться, предельном изводе – в виде архитектуры сакральной.
Во Введении подробно говорится, почему сакральная архитектура может символизироваться честертоновским образом Шара и Креста и почему – не без натяжек – можно говорить о классических методах, группируя их вокруг того, что условно именуется «иконография». Здесь скажем в свое оправдание лишь одно: мы смогли затронуть на самом деле малую часть тех подходов, которые ведут к пониманию архитектуры. Эти маршруты могут пролагаться и через антропологию, и через богословие, психологию, филологию, иконологию, герменевтику, социологию, через интертекстуальность и через дискурсивность, через феноменологию и экзистенциализм, через лингвистику и постструктурализм, через прочее и тому подобное (или неподобное). Дело не в названии дисциплины, выступающей в роли, так сказать, концептуального спонсора, а в ощущении и в переживании безмерности и, наверное, бессмертности смысла, являемого теофанически, символически и отчасти архитектонически.
Стоит обратить внимание, во-первых, на весьма подробную рубрикацию глав книги, что исполняет роль некоторого тематического и предметного указателя, а во-вторых, – на крайне обширные приложения и дополнения к основной части, которые призваны несколько нарушить иллюзорную линейность текста, явив разнонаправленные выходы за его пределы. Среди этих выходов обратим внимание уважаемого читателя на вынужденно фрагментарный обзор отечественного иконографически-архитектуроведческого опыта и на столь же краткий экскурс в крайне, на наш взгляд, плодотворный и неподражаемо фундаментальный опыт архитектурной антропологии отдельно взятого немецкого историка искусства (Генриха Лютцелера). Наконец, некий намек на рамочную конструкцию дают два текста – ранний и поздний – своего рода саморазоблачение автора, его признание в собственной ограниченности.
Если говорить о нерешенных проблемах – в пределах заявленных аспектов, то, как нам кажется, достоен отдельного осмысления или хотя бы акцентировки вопрос об исторической применимости тех или иных подходов, которые, как обычно принято считать, все равны пред лицом требований историзма. Что, однако, не совсем очевидно. Этот принцип категорически отвергает всякого рода «модернизацию», под которой подразумевают, как правило, применение современных, новых, экспериментальных методов и концепций. Эти методы и концепции могут безболезненно допускаться к современному материалу, который вполне жив и обладает, как всякий нормально функционирующий огранизм, средствами саморегуляции и неким подобием иммунитета по отношению ко всякого рода внешним и необязательным проникновениям, концептуальным инфекциям и методологическим инфильтрациям. Иначе обстоит дело с историческим материалом, с «памятниками искусства», которые надо беречь, спасать и защищать от беспощадного воздействия не только (и не столько!) исторического времени, сколько времени настоящего, времени современного. Проблемы историзма сложны, запутаны и порой обманчивы. Наша тайная мысль заключалась в том, чтобы показать сугубую сомнительность историзма по отношению к материалу художественному, феноменология которого предполагает непрестанную и неустанную актуализацию в опыте непосредственного контакта, диалога, где инстанция пользователя – это позиция вовлеченного, увлеченного, если не разоблаченного соучастника. А тем более, если речь идет о сакральном искусстве, об опыте Священного! Как поучительна здесь судьба, например, отечественной византинистики, когда-то позволившей себе отождествить объективное с обмирщенным, а теперь с трудом выбирающейся из зарослей позитивизма и эстетизма при помощи разнообразных перформативных у-топий…