Толстой и Достоевский. Противостояние - [36]
В силу своих многочисленных и непрерывных взаимопереплетений, нити повествования в «Войне и мире» и в «Анне Карениной» образуют плотную сетчатую ткань, внутри которой все совпадения и трюки перестают казаться таковыми и принимаются как должное. В некоторых теориях о происхождении Солнечной системы говорится, что для продуктивных столкновений потребовалась «необходимая плотность» материи в космосе. Толстовские разделенные сюжеты порождают такую же плотность, и через нее Толстой передает необыкновенную иллюзию жизни, реальности со всей ее суетой и конфликтами. В романах Толстого столько всего происходит, столь велико число персонажей, столь разнообразны ситуации, а промежутки времени столь протяженны, что персонажи не могут рано или поздно не встретиться, не повлиять друг на друга и не испытать те невероятные коллизии, которые раздражали бы нас в менее плотной среде.
В «Войне и мире» масса нечаянных столкновений; они откровенно выступают как части сюжетного механизма, но мы признаем их естественными в силу плотности жизни в толстовском «космосе». Когда Пьер, например, в самый разгар бородинского отступления и беспорядка подъезжает к мосту через Колочу, и солдаты сердито кричат ему уйти с линии огня, он «взял вправо и неожиданно съехался с знакомым ему адъютантом генерала Раевского». Мы принимаем этот факт, поскольку Пьер пробыл с нами уже столько времени, и мы видели его в таком числе контекстов, что нам кажется, будто мы уже знакомились и с этим адъютантом — в одной из предыдущих глав. Вскоре после этого раненого князя Андрея несут к перевязочному пункту. На соседнем с ним столе человеку ампутируют ногу; человек оказывается Анатолем Курагиным — и это несмотря на то очевидное обстоятельство, что в этот самый момент десятки тысяч людей по всей тыловой линии толкутся в перевязочных пунктах. Толстой трансформирует сиюминутное ощущение неправдоподобия в существенную для его истории и, в то же время, убедительную саму по себе деталь:
«Да, это он; да, этот человек чем-то близко и тяжело связан со мною, — думал князь Андрей, не понимая еще ясно того, что было перед ним. — В чем состоит связь этого человека с моим детством, с моей жизнью? — спрашивал он себя, не находя ответа. И вдруг новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и любовного, представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу такою, какою он видел ее в первый раз на бале 1810 года… Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце».
Постепенное вспоминание в мыслях князя пробуждают подобный процесс в уме читателя. Образы Наташи на ее первом балу занимают в романе немало места и, собранные воедино, формируют в памяти связную сцену. Первая ассоциация, которая приходит на ум князю Андрею, — не зло, сотворенное Курагиным, а красота Наташи. Воспоминание о ней, в свою очередь, побуждает его к чувству приязни к Курагину, к признанию путей Господних и к миру с самим собой.
Психологическая трактовка столь убедительна и столь очевидно значима, что мы забываем о мелодраматичности и неправдоподобии реальных обстоятельств.
Сеть параллельных и переплетающихся сюжетов в толстовском романе неизбежно влечет за собой внушительный список персонажей, многие из которых второстепенны или эпизодичны. Однако даже самая незначительная роль наделена глубокими человеческими качествами. Любой из персонажей, плотно населяющих «Войну и мир», незабываем. Как можно забыть, например, Гаврилу, «огромного выездного лакея» Марьи Дмитриевны, или старика Михайлу, или Прокофия, «который был так силен, что за задок поднимал карету», и который, когда Николай Ростов вернулся с войны, сидел в комнате и вязал лапти? У Толстого нет безымянных или изолированных персонажей. У каждого из них, даже самого незначительного, есть свое величие прошлого. Когда граф Илья Ростов готовит обед для Багратиона, он говорит: «Поезжай ты на Разгуляй — Ипатка-кучер знает — найди ты там Ильюшку-цыгана, вот что у графа Орлова тогда плясал, помнишь, в белом казакине…» Если прервать предложение на имени Ильюшка, сразу пропадет глубоко толстовский мазок. Этот цыган присутствует в романе лишь мельком и косвенно. Но у него есть своя самостоятельная жизнь, и мы понимаем, что он будет плясать в своем белом казакине и на других застольях.
Наделять даже эпизодических персонажей именами и сообщать хоть какие-нибудь детали об их жизни за пределами их краткого появления в романе — прием достаточно простой, но весьма эффективный. Искусство Толстого человечно; в нем нет трансформации людей в животных или в инертные предметы, посредством которой басни, сатиры, комедии и натуралистические романы реализуют свои цели. Толстой глубоко уважает целостность человеческой личности и никогда не сводит ее к роли простого инструмента даже в художественной прозе. Красноречивый пример обратного — метод Пруста, в мире которого второстепенные персонажи часто остаются безымянными, и автор их именно использует — в буквальном и метафорическом смысле. В «Беглянке», например, рассказчик зовет в дом свиданий двух прачек. Он предлагает им заняться любовью друг с дружкой, а сам изучает каждую их реакцию, дабы в воображении восстановить лесбийское прошлое Альбертины. В современной литературе мне знакомо лишь несколько эпизодов, сравнимых по бессердечности. Но главный ужас — это не действия девушек и не вуайеризм рассказчика, а в том, что девушки безымянны; ужасна их метаморфоза в объекты, лишенные приватности и изначальной ценности. Рассказчик абсолютно бесстрастен. «Эти две малышки, — отмечает он, — ни о чем не могли меня осведомить — они понятия не имели, кто такая Альбертина»
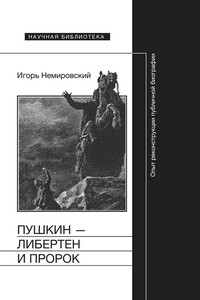
Автор рассматривает произведения А. С. Пушкина как проявления двух противоположных тенденций: либертинажной, направленной на десакрализацию и профанирование существовавших в его время социальных и конфессиональных норм, и профетической, ориентированной на сакрализацию роли поэта как собеседника царя. Одной из главных тем являются отношения Пушкина с обоими царями: императором Александром, которому Пушкин-либертен «подсвистывал до самого гроба», и императором Николаем, адресатом «свободной хвалы» Пушкина-пророка.

В 1831 году состоялась первая публикация статьи Н. В. Гоголя «Несколько мыслей о преподавании детям географии». Поднятая в ней тема много значила для автора «Мертвых душ» – известно, что он задумывал написать целую книгу о географии России. Подробные географические описания, выдержанные в духе научных трудов первой половины XIX века, встречаются и в художественных произведениях Гоголя. Именно на годы жизни писателя пришлось зарождение географии как науки, причем она подпитывалась идеями немецкого романтизма, а ее методология строилась по образцам художественного пейзажа.

Неповторимая фигура Андрея Платонова уже давно стала предметом интереса множества исследователей и критиков. Его творческая активность как писателя и публициста, электротехника и мелиоратора хорошо описана и, казалось бы, оставляет все меньше пространства для неожиданных поворотов, позволяющих задать новые вопросы хорошо знакомому материалу. В книге К. Каминского такой поворот найден. Его новизна – в попытке вписать интеллектуальную историю, связанную с советским проектом электрификации и его утопическими горизонтами, в динамический процесс поэтического формообразования.

В статье анализируется одна из ключевых характеристик поэтики научной фантастики американской Новой волны — «приключения духа» в иллюзорном, неподлинном мире.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Бродский и Ахматова — знаковые имена в истории русской поэзии. В нобелевской лекции Бродский назвал Ахматову одним из «источников света», которому он обязан своей поэтической судьбой. Встречи с Ахматовой и ее стихами связывали Бродского с поэтической традицией Серебряного века. Автор рассматривает в своей книге эпизоды жизни и творчества двух поэтов, показывая глубинную взаимосвязь между двумя поэтическими системами. Жизненные события причудливо преломляются сквозь призму поэтических строк, становясь фактами уже не просто биографии, а литературной биографии — и некоторые особенности ахматовского поэтического языка хорошо слышны в стихах Бродского.

«Все мои работы на самом деле основаны на впечатлениях детства», – признавался знаменитый шведский режиссер Ингмар Бергман. Обладатель трех «Оскаров», призов Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей, – он через творчество изживал «демонов» своего детства – ревность и подозрительность, страх и тоску родительского дома, полного подавленных желаний. Театр и кино подарили возможность перевоплощения, быстрой смены масок, ухода в магический мир фантазии: может ли такая игра излечить художника? «Шепоты и крики моей жизни», в оригинале – «Латерна Магика» – это откровенное автобиографическое эссе, в котором воспоминания о почти шестидесяти годах активного творчества в кино и театре переплетены с рассуждениями о природе человеческих отношений, искусства и веры; это закулисье страстей и поисков, сомнений, разочарований, любви и предательства.