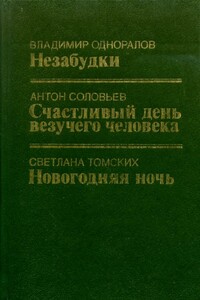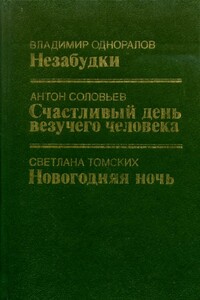Где-то возле спальных корпусов закричали ребята.
Он вздрогнул: к нему идут?!
Нет, показалось…
Ванька перевел дыхание, словно он и в самом деле сидел за листком и писал письмо, старательно выводя каждую букву.
«Мама, а когда соберешься ко мне, — Ванька продолжал шептать и думать, — то купи мне, пожалуйста, беличьих кисточек, у нас в магазинах их нет. На месяц нам дают на мороженое два рубля, но я трачу их на краски и кисти…»
Написав все это в уме, Ваньку так и потянуло пожаловаться мамке, но он одернул себя: подумает еще о нем, что он слюнтяй и ябеда, что нет в нем никакой самостоятельности, мужской гордости и характера. А Дылде он сдачи сам даст, если что… и у Колбасы больше попрошайничать всякую ерунду не станет и в изоляторе плакать не будет… хотя там одному страшно: ночью крысы на задних лапках нахально ходят… Ничего, отольются Фашисту мышкины слезки: вот устроят ребята ему… фейерверк, когда он дежурить будет…
Главное — пистонов достать…
Он прислушался вновь: не ищут ли его ребята?
Кажись, тихо, забыли на время…
И все же Ванька пожаловался: «Ты, мам, не волнуйся, все у меня есть: и пальто теплое, и ботинки на меху, и… в общем, живем мы тут… — Ванька покрутил рукой в воздухе, словно хотел поймать листок осенний — поймал нужное слово, — живем мы тут, как барчуки, ничего не делаем, а только носимся с этажа на этаж, как чумные, едим, спим… Скучно. Хотел я техничке, бабе Клаве, утром полы помочь помыть, а воспиталка заругалась: «Жуков! Тебе больше всех надо?» Во дворе подмести — нельзя. Дворник есть. А что льзя?! Собаку большую завести… А помнишь, как мы картоху садили? И у нас еще чушка была… такая славная и умная, нос с розовым пятачком, хвост крючком… Я у нее в стайке каждый день чистил…»
В стайке с хрюшкой и петух жил, и куры, и хромой селезень…
Ванька и собаку свою вспомнил, правда, звали ее не Каштанкой, а — Виолетой. Неспроста такое звучное имя дали ей: стоило кому-либо на улице заиграть на гармошке — она тут как тут — морду вытянет и начнет петь… Да так согласно игре гармошки, так задушевно подвывает, что все удивлялись, а папка Николай… тот аж слезу пускал, падал перед Виолетой на колени и пьяно сокрушался: «Эх, Виолеточка! Тебе человеком бы родиться! Великим Фигаром бы была!..»
Однажды приходит Ванька кормить кур и селезня и слышит: жалобно-жалобно кто-то в уголке пищит… Глянул — котеночек, махонький…
Лицо Ваньки от воспоминания озарилось счастливым светом, и он снова «пишет» письмо матери…
«Мама, а на неделе к нам на кухню в столовку привезли живых карпов. Большущие! Каждый с лопату… Одного карпа мы выпросили и пустили в ванну. Он у нас и по сей день там живет. Не боится нисколечко: с рук запросто берет вареный рис и страсть как любит сосать мизинец, как маленький соску… А когда к нему подходит Фашист, то он — как даст хвостом по воде! — обрызжет его с ног до головы. Не любит… Во! Какой… Все понимает. А Фашист страшно сердится и грозится: «Ну, погоди, стервоза! Попляшешь еще у меня танец с саблями на сковороде…» Но мы Карпа Иваныча стережем поочередно…»
Многое ему еще бы хотелось вспомнить, многое мамке сказать…
Но уже поздно.
Как быстро свечерело. В детдоме зажглись окна, и в небе — звездочки. «Интересно, — не опускает глаз с искрящихся звезд Ванька, — а есть ли на живых планетах детдома?» На душе у него спокойно: он верит, что завтра напишет письмо, и мамка приедет…
Обязательно приедет…