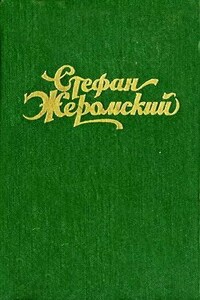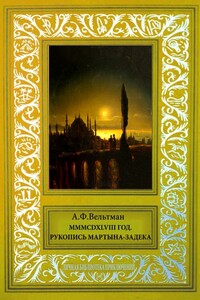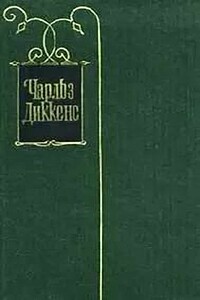— Вези и ты свою, лентяйка…
Она понимает эту милостивую уступку ее материнской любви, эту грубую доброту, эту жесткую и суровую ласку, — ведь когда они оба накладывают торф, работу можно кончить гораздо скорее. Она, как обезьяна, старается теперь подражать его быстрым, поспешным движениям, набрасывает грязь вчетверо скорее — работает уже не с мужицкой расчетливой экономией сил, не мускулами, а нервами. В груди у нее свистит, в глазах рябит, ее поташнивает, а из глаз в холодное и смрадное болото капают большие горькие слезы, слезы тупого страдания. Всаживая лопату в землю, она всякий раз смотрит, далеко ли до колышка; наполнив тачку, она подхватывает ее и, как Валек, бежит опрометью вверх.
Туман поднялся высоко, окутал камыши и неподвижной пеленой навис над верхушками ольх. Деревья кажутся в нем чудовищными пятнами неопределенного цвета, а эти бедняки, бегающие взад и вперед через овраг, — огромными страшными призраками.
Головы их падают на грудь, руки совершают однообразные движения, туловища клонятся к самой земле…
Колеса тачек скрипят и грохочут, волны тумана, похожие на разбавленное водой молоко, колышутся меж черными холмами.
В глубине небес зажглась вечерняя звезда и, мерцая, льет сквозь мрак свой тусклый свет…
1892