Стихотворения, не вошедшие в прижизненные сборники - [5]
Тем, кто в пути любили и страдали.
13
Из моего окна в вечерний час,
Когда полнеба пламенем объято,
Мне видится далекий Сан-Миньято,
И от него не оторвать мне глаз.
Уже давно последний луч погас,
А я все жду какого-то возврата,
Не видя бледности потухшего заката,
Смотрю ревниво, как в последний раз.
И где бы ни был я, везде, повсюду
Меня манит тот белый дальний храм,
И не дивлюся я такому чуду:
Одно по всем дорогам и горам
Ты - Сан-Миньято сердца моего,
И от тебя не оторвать его.
14
Любим тобою я - так что мне грозы?
Разлука долгая - лишь краткий миг,
Я головой в печали не поник:
С любовью - что запреты? что угрозы?
Я буду рыцарь чаши, рыцарь розы,
Я благодарный, вечный твой должник.
Я в сад души твоей с ножом проник,
Где гнулись ждавшие точила лозы.
И время будет: в пьяное вино
Любовь и слезы дивно обратятся.
Воочию там ты и я - одно;
Разлука там и встреча примирятся.
Твоя любовь - залог, надежда блещет,
Что ж сердце в страхе глупое трепещет?
15. SINE SOLE SILEO
(Надпись на солнечных часах)
"Без солнца я молчу. При солнце властном
Его шаги я рабски отмечаю,
Я ночью на вопрос не отвечаю
И робко умолкаю днем ненастным.
Всем людям: и счастливым, и несчастным,
Я в яркий полдень смерть напоминаю,
Я мерно их труды распределяю,
И жизнь их вьется ручейком прекрасным".
- Ах, жалкий счетчик мелочей ненужных,
Я не сравнюсь с тобой, хоть мы похожи!
Я не зову трусливых и недужных,
В мой дом лишь смелый и любивший вхожи.
И днем и ночью, в ведро иль ненастье
Кричу о беззакатном солнце счастья.
16
Прекрасен я твоею красотою,
Твое же имя славится моим.
Как на весах, с тобою мы стоим
И каждый говорит: "Тебя я стою".
Мы связаны любовью не простою,
И был наш договор от всех таим,
Но чтоб весь мир был красотой палим,
Пусть вспыхнет пламень, спящий под золою.
И в той стране, где ты и я одно,
Смешались чудно жертва и убийца,
Сосуд наполненный и красное вино,
Иконы и молитва византийца,
И, тайну вещую пленительно тая,
Моя любовь и красота твоя.
17
Сегодня утром встал я странно весел,
И легкий сон меня развел со скукой.
Мне снилось, будто с быстрою фелукой
Я подвигаюсь взмахом легких весел.
И горы (будто чародей подвесил
Их над волнами тайною наукой)
Вдали синели. Друг мой бледнорукий
Был здесь со мной, и был я странно весел.
Я видел остров в голубом тумане,
Я слышал звук трубы и коней ржанье,
И близко голос твой и всплески весел.
И вот проснулся, все еще в обмане,
И так легко мне от того свиданья,
Как будто крылья кто к ногам привесил.
604-608.
1
Не во сне ли это было,
Что жил я в великой Александрии,
Что меня называли Евлогий,
Катался по зеленому морю,
Когда небо закатом пламенело?
Смотрелся в серые очи,
Что милее мне были
Таис, Клеопатр и Антиноев?
По утрам ходил в палестру
И вечером возвращался в свой дом с садами,
В тенистое и тихое предместье?
И слышался лай собак издалека?
Что ходил я в темные кварталы,
Закрывши лицо каракаллой,
Где слышалось пенье и пьяные крики
И пахло чесноком и рыбой?
Что смотрел я усталыми глазами,
Как танцовщица пляшет "осу",
И пил вино из глиняного кубка,
И возвращался домой одиноким?
Не во сне ли тебя я встретил,
Твои глаза мое сердце пронзили
И пленником повлекли за собою?
Не во сне ль я день и ночь тоскую,
Пламенею горестным восторгом,
Смотря на вечерние зори,
Горько плачу о зеленом море
И возвращаюсь домой одинокий?
2
Говоришь ты мне улыбаясь:
"То вино краснеет, а не мои щеки,
То вино в моих зрачках играет;
Ты не слушай моей пьяной речи".
- Розы, розы на твоих ланитах,
Искры золота в очах твоих блистают,
И любовь тебе подсказывает ласки.
Слушать, слушать бы тебя мне вечно.
3
Возвращался я домой поздней ночью,
Когда звезды при заре уж бледнели
И огородники въезжали в город.
Был я полон ласками твоими
И впивал я воздух всею грудью,
И сказали встречные матросы:
"Ишь как угостился, приятель!"
Так меня от счастия шатало.
4
Что ж делать, что ты уезжаешь
И не могу я ехать за тобой следом?
Я буду писать тебе письма
И ждать от тебя ответов,
Буду каждый день ходить в гавань
И смотреть, как корабли приходят,
И спрашивать о тех городах, где ты будешь,
И буду казаться веселым и ясным,
Как нужно быть мудрецу и поэту.
Накоплю я много поцелуев,
Нежных ласк и изысканных наслаждений
К твоему приезду, моя радость,
И какое будет счастье и веселье,
Когда я тебя на палубе завижу
И ты мне махнешь чем-нибудь белым.
Как мы опять в мой дом поедем
Среди садов тенистого предместья,
Будем опять кататься по морю,
Пить терпкое вино в глиняных кувшинах,
Слушать флейты и бубны
И смотреть на яркие звезды.
Как светел весны приход
После долгой зимы,
После разлуки - свиданье.
5
Ко мне сошел
блаженный покой.
Приветствовать ли мне тебя,
сын сна,
или страшиться?
И рассказам о кровавых битвах
там, далеко,
где груды мертвых тел
и стаи воронов под ярким солнцем,
внимаю я
равнодушно.
И повести о золотом осле,
столь дорогой мне,
смеху Вафилла кудрявого,
Смердиса пенью,
лирам и флейтам
внимаю я
равнодушно.
На коней белогривых с серебряной сбруей,
дорогие вазы,
золотых рыбок,
затканные жемчугом ткани
смотрю я
равнодушно.
И о бедственном дне, когда придется

Повесть "Крылья" стала для поэта, прозаика и переводчика Михаила Кузмина дебютом, сразу же обрела скандальную известность и до сих пор является едва ли не единственным классическим текстом русской литературы на тему гомосексуальной любви."Крылья" — "чудесные", по мнению поэта Александра Блока, некоторые сочли "отвратительной", "тошнотворной" и "патологической порнографией". За последнее десятилетие "Крылья" издаются всего лишь в третий раз. Первые издания разошлись мгновенно.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
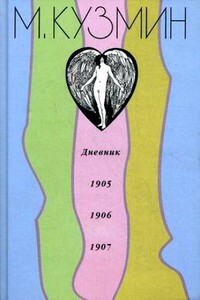
Дневник Михаила Алексеевича Кузмина принадлежит к числу тех явлений в истории русской культуры, о которых долгое время складывались легенды и о которых даже сейчас мы знаем далеко не всё. Многие современники автора слышали чтение разных фрагментов и восхищались услышанным (но бывало, что и негодовали). После того как дневник был куплен Гослитмузеем, на долгие годы он оказался практически выведен из обращения, хотя формально никогда не находился в архивном «спецхране», и немногие допущенные к чтению исследователи почти никогда не могли представить себе текст во всей его целостности.Первая полная публикация сохранившегося в РГАЛИ текста позволяет не только проникнуть в смысловую структуру произведений писателя, выявить круг его художественных и частных интересов, но и в известной степени дополняет наши представления об облике эпохи.

Жизнь и судьба одного из замечательнейших полководцев и государственных деятелей древности служила сюжетом многих повествований. На славянской почве существовала «Александрия» – переведенный в XIII в. с греческого роман о жизни и подвигах Александра. Биографическая канва дополняется многочисленными легендарными и фантастическими деталями, начиная от самого рождения Александра. Большое место, например, занимает описание неведомых земель, открываемых Александром, с их фантастическими обитателями. Отзвуки этих легенд находим и в повествовании Кузмина.

Художественная манера Михаила Алексеевича Кузмина (1872-1936) своеобразна, артистична, а творчество пронизано искренним поэтическим чувством, глубоко гуманистично: искусство, по мнению художника, «должно создаваться во имя любви, человечности и частного случая». Вместе с тем само по себе яркое, солнечное, жизнеутверждающее творчество М. Кузмина, как и вся литература начала века, не свободно от болезненных черт времени: эстетизма, маньеризма, стилизаторства.«Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» – первая книга из замышляемой Кузминым (но не осуществленной) серии занимательных жизнеописаний «Новый Плутарх».

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».